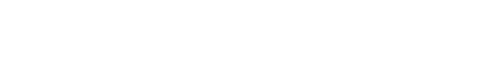В один из вечеров, когда мы с мамой сидели у огня и ели жареную кукурузу с грецкими орехами, вдруг зашел отец. Он был мертвецки пьян. Я заметил, что у мамы сразу проступили слезы. Я еще держал недоеденный початок в руках и раздумывал, съесть ли оставшиеся слегка недожаренные зерна. Но при виде отца встал от удивления, и кукуруза выпала у меня из рук. Орехи, которые я очищал от скорлупы прямо на коленях, тоже рассыпались у очага. А мама обхватила голову руками и заплакала навзрыд.
Отец даже мог повысить голос, когда выпивал. Я оставил их и пошел в комнату, где спала бабушка. Сон уже полностью овладел ею, когда я опустился на колени перед постелью и стал будить ее громким шепотом:
– Бабушка! Бабушка, ты слышишь?
– Что, нан? – тут же проснулась она.
– Бабушка, папа пришел пьяный, на ногах не стоит.
– Пьяный, ты сказал? Он правда сильно выпил, да?
– Да, бабуля, правда. И мама плачет.
– Унан, бедная я, несчастная! Почему я не умерла, меня и там не хотят видеть! Как он пошел на это после того, что случилось с вашей сестрой? Бедный, маленький ангел. Подай мне платье, нан, чтоб оно сгорело на мне!
Когда мы зашли на кухню, папа сидел за столом, а перед ним стоял наполненный до краев стакан. Мама совсем зарылась головой в подол и плакала от отчаяния. Папа швырнул кошку, которая посапывала рядом с ним, и она кубарем полетела прямо к маме и вцепилась когтями ей в спину. Но бабуля пригрозила ей палкой, и бедное животное спряталось под тахту. Мама не переставала плакать. Папа встал, положил одну руку бабушке на плечо, а второй поднял стакан с вином и стал произносить тост в ее честь. Я стоял и думал, вот-вот бабуля отругает его. Но она не проронила ни слова. Папа опустошил стакан, а потом вновь наполнил его и вручил бабушке, настаивая, чтобы она выпила. Бабуля, зная привычки сына и его упрямство, не стала спорить – подняла тост за него, но отпила совсем чуть-чуть. Затем освободилась от руки папы и аккуратно поставила стакан на стол. Я знал, что бабушка не опьянеет, выпей она и целый стакан. Мама говорила, что бабушка пьянеет только тогда, когда ее нос становится красным, как острый перец. Но отец не переставал ее донимать, и она направила стакан ко мне со словами: «Пусть и Быка выпьет половину». Именно так называл меня папа с тех пор, как я себя помню. Мама как-то рассказывала, что когда я был поменьше, у нас была коза Ныка с большими рогами и длинной шерстью. И я не отходил от нее ни на шаг, колокольчиком висел на ней. Однажды к нам приехали фольклористы, чтобы записать речь бабушки как старожила. С ними была русская девушка, которая впервые увидела козу с такой длинной шерстью и разглядывала ее с большим удивлением. Когда они уходили, папа подарил козу ей, видимо, был подвыпившим и в тот день.
Я тоже помню, как будто во сне, как люди покидали наш зеленый двор, уводя с собой мою Ныку. По словам мамы, я зарыдал, и девушка решила отказаться от подарка, но отец не позволил ей вернуть козу: если гостю что-то понравилось в твоем доме, принято ему это дарить. После этого случая отец и дал мне это прозвище – Быка. Со временем все в семье подхватили мое новое имя.
…Когда я открыл глаза, было уже светло. Мама, как всегда, встала раньше всех, папа лежал, устремив взгляд в потолок. Наверное, он о чем-то мечтал, но, заметив, что я проснулся, протянул руку и нежно провел по моим волосам, а потом стал играть со мной, как с малышом. Спустя какое-то время он вдруг воскликнул:
– Почему у тебя подушка влажная, Быка?
– Я плакал, папа.
Он ничего на это не ответил, а лишь убрал руку, закрыв ею свой лоб, и лежал так несколько минут. Потом повернулся лицом к стене. По ней без устали туда-сюда сновали муравьи. Я знал, что когда его глаза устанут от их бесконечного бега, он повернется ко мне. Так и случилось. Вскоре он заговорил немного дрожащим голосом:
– Быка, кто еще плакал ночью кроме тебя?
– Мама тоже плакала.
– А бабушка?
– Бабушка сказала: не плачьте, нельзя.
Папа вновь повернулся к стене. Я чувствовал, что его что-то терзало, не давало покоя. Он же боялся, что я догадаюсь об этом, и отводил взгляд, то и дело поворачиваясь к стене. Потом он приложил указательный палец к муравьиной дорожке, но муравьи почти сразу обогнули препятствие и продолжили свой бег, как слезы, которые невозможно удержать. Я знал, что слезы не могут течь наверх и что они не такие черные, как муравьи, но все же хотелось как-то мысленно сблизить мамины щеки и белую стену, к которой папа прижал свой палец. Тут я вскочил с кровати, будто поднятый неведомой силой, и подбежал к маминой постели. Откинул одеяло, вытащил подушку и обнял ее. Она была теплая, как мамино лицо. Потом на цыпочках осторожно подошел к папе.
– Папа!
– Чего тебе, мой Быка?
– Высунь руку из-под одеяла и дай мне.
– Вот, держи, Быка.
– Видишь, какая влажная? Это мамина подушка.
– Ты тоже понял, да, Быка, что она влажная? Я знал.
– Папа, а как ты узнал, ты же не видел, как мама плакала?!
– Я знал, Быка, просто знал…
Я вернул подушку мамы на место, потом вернулся к себе в постель. Какое-то время лежал, наблюдая за папой и муравьями. Потом тоже повернулся лицом к стене.
В небольшом окне над моей головой шмель все бился о стекло, видимо, сердился по-своему. Я вновь повернулся к отцу. Но вскоре встал с кровати. Босиком прошел из комнаты в пристройку, где спала бабушка. Она тоже по обыкновению вставала ни свет ни заря. Я откинул ее одеяло, схватил подушку и выбежал.
– Папа, папа!
– А, ты встал раньше меня, Быка?
– Папа, дай-ка мне еще раз свою руку.
– На, мой Быка.
– Папа, это подушка бабушки.
– Да, да, Быка, я не знал, что и ее подушка мокрая. Ты догадался, ты умнее меня, мой мальчик…
– Пап, давай я положу под твою голову эту подушку?
– Хорошо, Быка, хорошо, давай.
– Папа, а мамину подушку я возьму себе.
– Как хочешь, Быка.
Я положил мамину подушку поверх своей и вновь нырнул под одеяло. Мне показалось, что сейчас я усну так сладко, как не спал всю минувшую ночь. Меня вообще легко уводило в сон. Но иногда бывало, что не мог уснуть от страха увидеть кошмары. В такие ночи, если мне и удавалось забыться, то потом просыпался в слезах от дурного сна. Больше всего я боялся увидеть во сне змею, пиявку или ежа. Были и другие животные, которые нагоняли на меня страх, но до слез дело не доходило, обходилось испугом. В этот раз во сне мне явилась моя умершая сестра. Она долго-долго что-то рассказывала, но ее голоса я не слышал. Я расплакался из-за того, что она была беззвучна. Мне захотелось приблизиться к ней, но чем ближе я подходил, тем больше она отдалялась. Я мучился, плакал навзрыд, и вдруг ее голос донесся до меня.
– Быка...
– Слушаю, сестра.
– Не лей воду в мою могилку каждый раз, когда приходишь…
– Почему, сестра?
– Не люблю воду, она меня душит.
– Хорошо, сестра, больше не буду.
– Быка, а тот парень часто к вам приходит?
– Приходит, сестра.
– Ко мне на могилу ходит?
– Был, на днях положил тебе крупную алычу, сестра.
– Я ненавижу алычу, Быка.
– Почему, сестра?
– Она расцветает раньше всех и быстрее всех увядает, проходит.
– Он и персики кладет, сестра.
– Быка...
– Я слушаю, сестра.
Она какое-то время молчала. Я стоял и что-то говорил сквозь слезы, рассказывал о семье, что все плачут по ней, что старший брат шлет письма из армии и не знает о ее смерти, что мы готовимся к годовщине, но она ничего из этого не слушала, стояла, заткнув уши. Я расстроился, что она не хочет ничего знать, и начал плакать. Вдруг она неожиданно громко рассмеялась и куда-то устремилась бегом. Я побежал следом, она все шла и шла, и я не отставал, вдруг в одночасье она пропала. Слезы хлынули у меня из глаз. Я долго плакал, сестра, видно, пожалела меня, но сама не показывалась и только подала голос.
– Быка, почему я не вижу того парня?
– Не знаю, сестра, он всегда здесь…
– Пусть он там и остается, Быка, пусть живет, сюда ему не дай Бог…
– Он жив, сестра, но теперь совсем не улыбается.
– Быка, что еще он тебе говорит?
– Говорит, что мои глаза похожи на твои.
– Быка, а когда он заходит домой, папа его не напаивает вином?
– Нет, сестра, да и папа не пьет, как раньше.
– Ты меня обманываешь, Быка.
– Нет, сестра, это правда.
– Быка, ты жалеешь нашу маму?
– Жалею, конечно, жалею. Но она жалеет меня еще больше.
– Жалейте друг друга, Быка. И меня жалейте тоже.
– Сестра, сестра, ты больше не оживешь? Сес-тра, сес-тра-а!..
Когда я проснулся, папа уже встал и ушел. Я откинул его одеяло и пощупал подушку, она была сухая. Мой отец не плакал. Муравьи все продолжали ползать вверх и вниз по стене. Даже папин палец не смог их остановить. Все шли и шли по стене, как слезы по щекам мамы. Муравьи, слезы…
***
Когда я распахнул дверь и вошел в класс, все дети хором рассмеялись. И учительница рассмеялась тоже, а потом уже и я поддался общей волне. Но я первый перестал смеяться, затем учительница, а другие еще долго не успокаивались, пока не забыли, что смеются надо мной. Учитель спросил меня, желая прекратить шум в классе:
– Почему ты опоздал, Камыгу?
– Спал.
Класс вновь зашелся в смехе. Особенно те, кто сидел за первыми партами. Только одна девочка с вплетенными в косы белыми бантами не смеялась. Я смотрел на нее, чтобы удержаться от смеха над самим же собой. В это время учительница снова обратилась ко мне:
– Ладно, но почему мама тебя не разбудила?
– Она меня пожалела.
Дети вновь засмеялись. Мне казалось, что и я смеюсь вместе с ними, и только когда слезы из глаз стали капать на носки моих ботинок, я понял, что плачу. Я вылетел из класса и пошел обратно. Выйдя со школьного двора, бегом добрался до дома, не переставая плакать. Дома все уже чем-то занимались. Папа косил траву, мама гнала чачу, тетя чем-то гремела, прибираясь на кухне, и только бабушка спокойно сидела под грушевым деревом. Она заметила меня лишь тогда, когда я уже подбежал и сел рядом с ней, положив неподалеку портфель.
– Нан, ты чего так рано вернулся?
– Я опоздал, бабуль.
– И тебя не впустили из-за опоздания, нан?
– Они смеялись надо мной, бабушка.
Я уронил голову ей на колени и заплакал с новой силой. Когда слезы подступали к горлу, мне было легче уткнуться лицом в ее платье. Она гладила мои волосы сухими руками, чесала мне спинку и даже полушутя запела мне колыбельную «шьышь наани».
Мне нравилось, когда бабуля меня жалела. Бывало, что и по мелочам начинал плакать и зарывался в ее подол. Она приучила меня к этому.
– Бабуля, над папой тоже смеялись.
– Кто смеялся, нан?
– Соседи.
Бабушка еще погладила меня по голове. Вдруг я взял ее за руки и посчитал все пальцы. И так обрадовался, что их оказалось десять. Не знаю почему, но я вдруг испугался, что их может недоставать.
– Бабуля!
– Да, нан.
– Они не могут перестать смеяться над папой?
– Поспи, нан, поспи.
– У тебя на коленях, бабуля?
– Да, Быка, у меня на коленях. Закрой-ка глазки.
– Но я не хочу спать, бабуля.
– Постарайся, нан.
Бабушка снова провела рукой по моим волосам. Она и вправду хотела, чтобы я поспал. Даже несколько раз тихонечко запевала колыбельную, которую ей очень нравилось петь. Но я знал, что от трогательной колыбельной она бы расплакалась. Я не любил ее слезы, они были слишком горячими. Мамины слезы были теплыми. Тетиных слез я боялся. Когда она начинала плакать, слезы капали у нее из глаз так безудержно, будто кто-то порвал нить жемчуга и он весь рассыпался на пол.
Слез отца я никогда не видел…
– Бабуля!
– Да, нан?
– А какого цвета папины слезы?
– Я не знаю, нан.
– Он ни разу не плакал?
– Он же мужчина, нан, мужчины не плачут.
– Когда сестра умерла, он тоже не заплакал?
– Нет, нан, не заплакал.
– Почему, бабуля?
– Поспи, нан, поспи. Неужели ты не хочешь спать, Быка?
– Боюсь увидеть сон, если засну, бабуля.
– Какой сон, нан?
– Как будто сестра умерла и лежит в гробу, и вся семья стоит вокруг нее и плачет, один папа не плачет, его слез не видно.
– Ты видишь сестру во сне, нан?
– Всегда ее вижу, бабуля.
– Ты не бойся ее, нан, хорошо?!
– Нет, бабуля, это она меня боится. Всякий раз убегает.
Бабушка начала гладить мои волосы. Я знал, что после смерти внучки она ее не видела во сне. Ложилась спать, думая только о ней. Но та так ни разу и не пришла к ней во сне. Думаю, маме она часто снилась, только мама не рассказывала об этом, боясь спугнуть сновидения. В нашей семье она больше всех верит в сны. Почти никогда не рассказывает о своих снах. Только однажды я слышал, как, проснувшись утром, она рассказывала папе, что ей приснилось. И то шепотом. Не знаю, услышал ли он что-то из ее рассказа, но я ничего не разобрал. В тот день я очень обиделся на маму. Бабушка бы все мне рассказала.
– Бабуля!
– Что, нан?
– Знаешь, что сказала сестра во сне?
– Что она, бедная, сказала, нан?
– Сказала, чтобы мы жалели того парня.
– Жалеем, разумеется. Как не пожалеть безумного.
– Бабуль, слышишь?
– Да, нан, слушаю, мой хороший, да падут на меня твои беды...
– Еще она сказала, чтобы мы и ее жалели, и маму жалели.
– Да, нан, конечно, всех жалеем, все же свои.
– Велела, чтобы все мы жалели друг друга.
– Все мы жалеем друг друга, нан, а как же иначе.
Тут я поднял голову и посмотрел на бабушку. Одну из бороздок на ее морщинистой щеке уже наполнили слезы. Сейчас она могла плакать только одним глазом, второй был незрячим. Я не видел, чтобы из него шли слезы. Больше всего мне было жаль слепого глаза бабушки.
– Бедная бабуля...
– Ты куда, нан? Иди сюда, поспи у меня на руках, покачаю тебя.
– Бабуля, я боюсь твоих слез.
– Не бойся, нан, что ты!? Пусть они пойдут тебе во благо.
– Бабуля, знаешь, на что похожи твои слезы?
– На что же?
– На мамины слезы.
– Хорошо, нан, пусть будут похожи.
– Бабуля, а знаешь, на что похожи мамины слезы?
– На что?
– Они похожи на муравьев, да, потому что никогда не кончаются. Только муравьи черные, а слезы белые.
– Ну, хорошо, нан, теперь иди ко мне, ложись ко мне на колени.
– Бабуль, я боюсь твоих слез. Потом они мне приснятся ночью. Я пойду к папе, бабуль.
– Ну, пойди, нан, пойди.
Оставив бабушку, я побежал на сенокос. Закрыл ворота и со всех ног побежал к отцу.
– Папа! – воскликнул я, подбежав к нему.
– А, мой Быка, ты пришел?
– Только не размахивай сильно косой, я боюсь, папа.
– Не бойся, Быка, не бойся, ты же мужик!
– Но я боюсь, папа. Брось косу, пожалуйста.
– Хорошо, Быка, подойди ко мне. Вот, я ее бросил.
Я тут же повис на нем. Лезвие косы сверкало под ольхой, куда он ее закинул. Теперь мне не было страшно, я мог обнимать папу, дергать его за волосы, вдыхать его запах.
Я провел ладонью по его колючей бороде, но она не была мокрой. На мгновенье показалось, что я осязал ту самую мужественность, о которой он мне говорил. Но я не успел оформить эту мысль в голове, он сжал мои предплечья и слегка потряс. Мне показалось, что он как-то взгрустнул. Возможно, не почувствовал в моих мышцах и намека на мужественность. Но я не плакал, обнимал его за шею, стараясь вдруг не расплакаться, перебирал пальцами его бороду, шептал ему в ухо: расскажи, в чем мужество.
Он улыбался, прижимал меня к себе, целовал украдкой в шею. Я слышал запах его пота и думал, что это и есть источник мужественности.
Папа снова меня обнял. Я знал, что теперь он меня не будет щекотать и целовать в шею. Но мне хотелось, чтобы он больше не грустил, а продолжал играть со мной и рассказывать, что такое мужество.
Наверное, он догадался о моих раздумьях, но не подал виду и долго молчал. Мне в это время казалось, что из его глаз идут слезы, что он плачет, видит дочку во сне, жалеет слепой глаз бабушки и больше не будет предлагать безумному выпить вина. В этот день я впервые пожалел отца.
Иллюстрация Алины ГАМГИЯ
1Нан – ласковое обращение к ребенку.
2У́нан – возглас отчаяния или удивления.