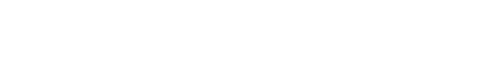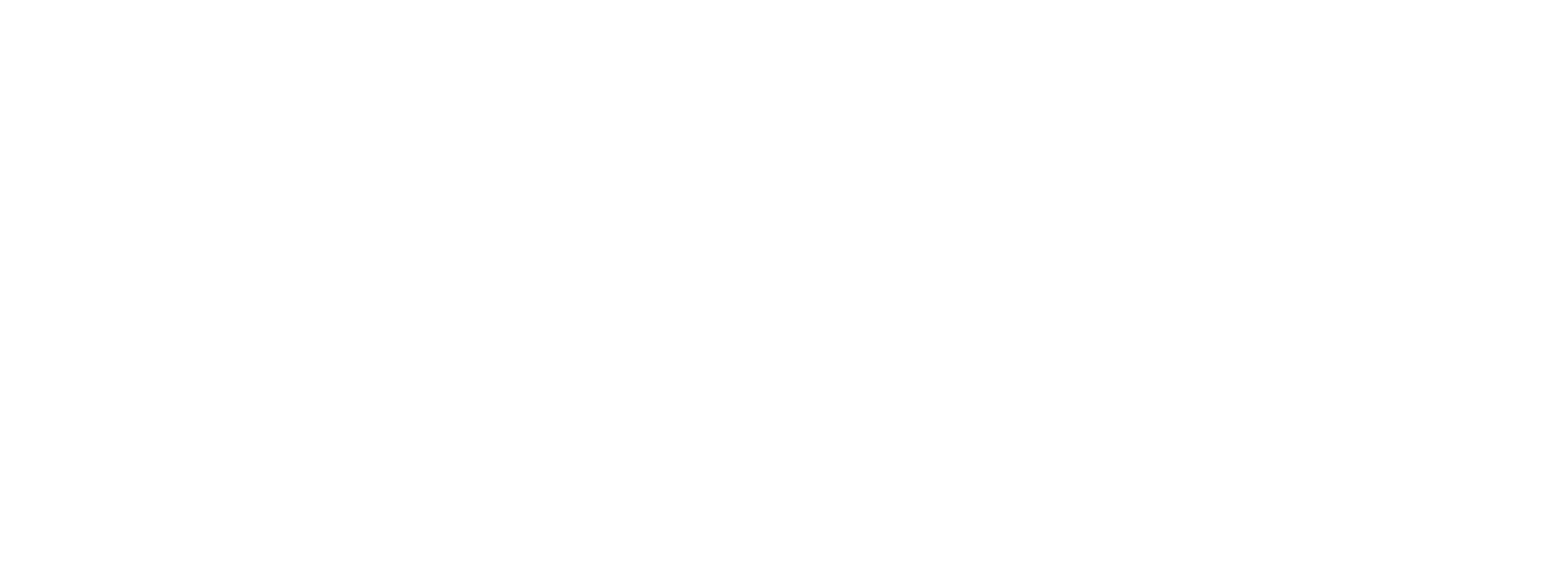Приглашая Дениса Киршаловича Чачхалиа в дом Гулиа, коллектив музея во главе с директором Светланой Корсая не сомневался: вечер будет особенным... Располагающая атмосфера, хранящая дыхание великого Дмитрия Иосифовича и его семьи, октябрьский дождь за окном, словно грань между вчерашним летом и завтрашней южной зимой… Но главное, что большинство приглашенных знали Дениса Киршаловича ещё юным Денисом, студентом Литературного института имени А. М. Горького в Москве, журналистом газеты «Советская Абхазия», активным участником национально-освободительного движения, переводчиком классиков абхазской литературы на русский язык, наконец, преподавателем в собственной alma-mater и руководителем первой абхазской группы переводчиков. Как и он когда-то, его «птенцы» – студенты из Абхазии и московский юноша, а впоследствии герой, отдавший жизнь за Абхазию, Александр Бардодым, учились на отделении художественного перевода на семинаре у Льва Озерова. И это были счастливейшие дни…
А в этот вечер в зале собрались люди разных поколений, друзья и поклонники Дениса Киршаловича, которому в 2025 году исполнилось 75 лет. И хотя у каждого были свои впечатления о человеке и поэте Денисе Чачхалиа, остров юности и расцвета, наполненный ярким светом и жизнью взахлеб, был у них общий.
Невозможно вместить в рамки одной встречи итоги колоссального труда, который Денис Киршалович – человек большого многогранного таланта – посвящает драматургии, исследованиям истории, архитектуры Отечества и ее следов на земле и многому другому. Так что вечер был посвящен Чачхалиа-поэту.
О главных событиях удивительной подвижнической судьбы друга, соратника и коллеги рассказал собравшимся писатель, ученый, государственный и общественный деятель, академик АНА Владимир Зантариа. И уже по этому первому выступлению было понятно, что судьба Дениса Киршаловича Чачхалиа – сплетение парадоксов.
Затаив дыхание, слушали гости стихотворение Александра Блока в переводе Дениса Чачхалиа, которое прочитал актер Молодежного театра Саид Камкия.
Выступали друзья Дениса Чачхалиа – талантливейшие представители своего народа и своего времени – поэт, писатель, главный редактор журнала «Аказара» Геннадий Аламиа, поэт, академик АНА Валентин Когониа и историк Руслан Гожба, представители более молодого поколения писателей – глава книжного издательства Даур Начкебиа.
И это были не слова, а картины, создаваемые словом, пробуждающие в сознании присутствующих события юности, жизнь журналиста и переводчика, драматизм мира, все более сгущавшийся в преддверии Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Мне вспомнился рассказ Константина Паустовского «Старый повар»: в один из зимних вечеров в маленьком домике на окраине Вены умирает бывший повар графини Тун, ослепший от жара печей. Старик просит дочь Марию привести к нему первого встречного – он хочет исповедоваться. Незнакомец, приглашенный Марией, входит, говорит с умирающим, а потом садится за клавесин и начинает играть, и музыка уносит читателей и старого героя рассказа в прошлое – снег за окном превращается в цветущий сад, и лучшие мгновения жизни согревают сердце.
Вот таким же – волшебным – был и вечер Дениса Чачхалиа. Только вместо Вольфганга Амадея Моцарта за клавесином (у Паустовского это он и есть!) перед нами – Мастер другого искусства: и не звуки музыки, а музыка слова превращала в чудо реальность.
Судьба сына Киршала Чачхалиа, абхазского поэта, действительно полна парадоксов: трудно поверить, что до восьми лет Денис не говорил на абхазском, он учился в русской школе, и ему было непросто восполнять «белые пятна» в познании родного языка. Как рассказал он уже после вечера, помогло «погружение»: когда он переводил произведения Баграта Шинкуба, то стремился выискать и уточнить все – даже незаслуженно забытые – слова и словосочетания на абхазском языке, и он уже сердцем внимал, впитывал, воссоединялся с ним, языком родным.
На вечере Денис Чачхалиа вспоминал: «Перенос на землю Абхазии праха Александра Константиновича Чачба, жившего и ушедшего из жизни во Франции, для нас рассматривался как победа абхазского духа над противником. И когда это состоялось, я написал стихотворение, применив такой творческий прием – послание от имени самого Александра Чачба «Прощальное письмо Отечеству».
Конечно, у меня возникла мысль, что эти стихи можно воспринять как авторские стихи самого Александра Константиновича. Многие принадлежащие ему фразы – а я ведь был знаком с его перепиской – как-то сами «вписались» в тело стихотворения. Дочь Александра Константиновича Биана призналась: «…Я не могу разделить… я слышу фразы и голос папы».
Но самый главный сюрприз подстерегал Дениса Чачхалиа во время встречи с Мушни Таевичем Ласурия, который, как оказалось, был уверен, что стихотворение принадлежит именно Александру Чачба. И это – тоже парадокс!
Еще раз убеждаюсь, что переводчик – своего рода медиум в мире величайших талантов и, кто знает, что происходит на самом деле, кто надиктовывает нам заветные строки. Денис Киршалович вспоминает, как Фазиль Искандер, прочитав его перевод на абхазский язык стихотворения Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу»… со вздохом сказал: «Денис! Больше ничего не пиши…»
Конечно же, на вечере все просят Дениса Киршаловича почитать. И он читает. Наизусть. Стихотворение за стихотворением, переходя с абхазского на русский…
И признается, что, пожалуй, только одно стихотворение – «Монолог алычового сада» – он написал без мук. Он рассказывает, что написал его в номере Литфонда еще в молодости по возвращении с похорон дедушки… И читает.
Уютный зал Гулиевского дома заполняется ароматом еще далекой, но уже желанной весны… Ведь у каждого из нас, выросшего на юге, не раз сжималось сердце, когда мы видели эти обманутые теплом ветви цветущей алычи… Ведь потом налетит она, зима, с ее дождями, запахом снега, белеющими предгорьями, и погибнут невинные лепестки, и смешаются со снегом… И было это с каждым. И в каждом поколении… Пока существует… Пока живет мир.
И хотя вечер, как мы с самого начала условились, посвящен исключительно поэтическому аспекту творчества Дениса Чачхалиа, сам юбиляр все-таки в разговоре с залом упоминает, что с ранней юности жил с чувством некой недоговоренности в нашей истории… И это ему принадлежит немалая заслуга в том, что некоторые, казалось бы, несуществующие страницы абхазской истории, восстанавливаются. Благодаря его исследованиям. Все настоятельнее звучит в мире упоминание абхазской школы византийской архитектуры. И он к этому напрямую причастен.
Вот и пролетел вечер, и его главный герой вместе со своей соратницей, спутницей жизни и матерью сыновей Марией Гицба еще и еще раз возвращается к подготовленной к вечеру фотовыставке, на которой они с людьми, о которых он только что вспоминал с теплом и любовью… О тех, кто и сегодня рядом. Такая уж она, жизнь Дениса Чачхалиа, – мозаика парадоксов. Иначе и не назовешь.