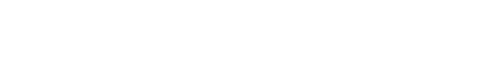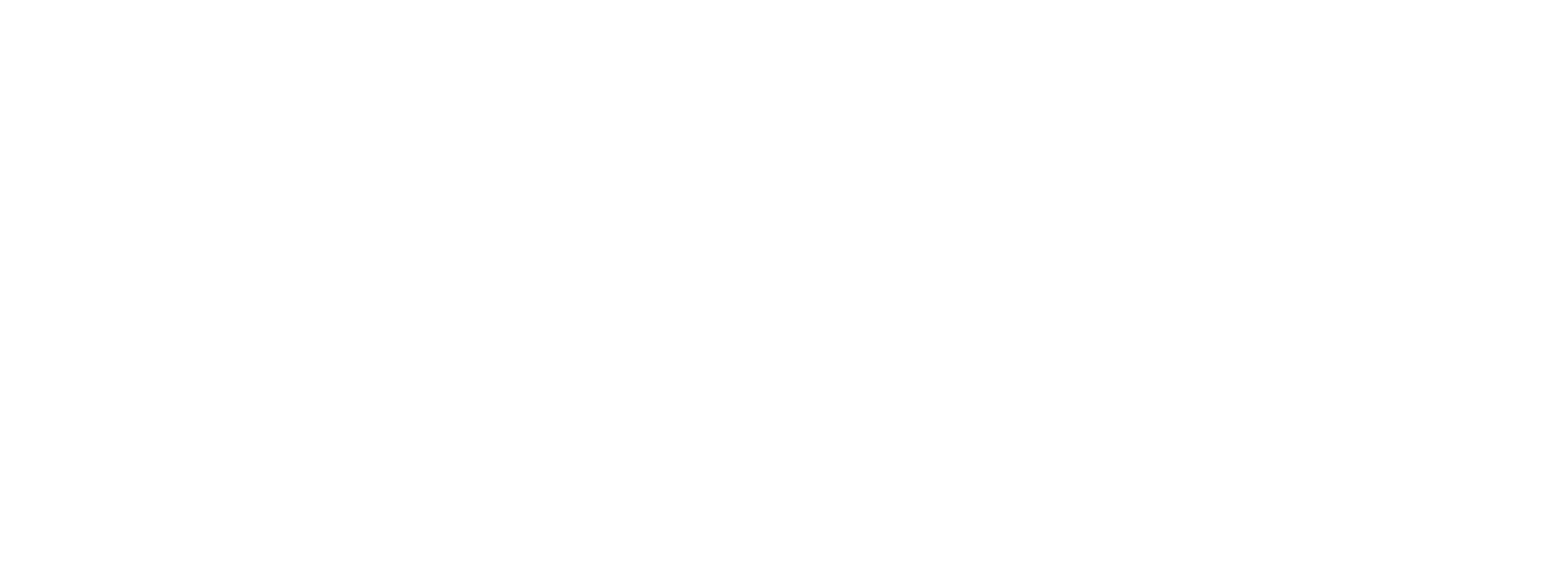Уважаемые читатели, вернемся к тому факту, который подвиг меня написать эту статью, – к одному из фронтовых писем нашего бессмертного Леварсы Квициниа к своему зятю Константину Жваниа:
«Уважаемый Константин!
Примите от солдата теплое приветствие! Как у вас со здоровьем? От всей души желаю крепкого здоровья. Константин, наконец-то, я достал адрес Сандры, и мы с ним начали переписываться. Он всегда вспоминает вас. Беспокоится о вас и о Шалико. Мне он пишет патриотические письма. Всем нашим родственникам, кроме Шалико, пишет письма. О нем он ничего не знает. Да и у меня нет никаких вестей о нем. Но я уверен, что Шалико жив-здоров и самоотверженно служит. Наверняка находится в таком месте, откуда трудно посылать письма, да и писать их он никогда не любил. Я жив и здоров. Солдатская служба идет. И писательскую деятельность тоже не оставляю. Не проходит дня, чтобы не написал хоть одну страничку. Чуть не забыл: Михаил Делба прислал мне денег – целых 100 рублей.
Большой всем привет. Ваш Леварса. БССР, Белостокская область, г. Цихановеп. ПП 7120. 16.02.41г.
P.S. По закону мне еще осталось восемь месяцев службы, но думаю, что к концу мая буду дома. Хотя, нынче сложно предугадать, что будет завтра. Может, придется и воевать».
Это письмо Леварсы мне дала его сестра. Дома я спокойно прочел все письма, что у меня были. Стало больно, оттого что Леварса оказался прав, сказав: «Может, придется и воевать». И надежда, что к маю будет дома, также оказалась несбыточной. Меня также заинтересовал факт о Михаиле Делба. Я знал о том, что Леварса имел бронь, но его все же отправили на фронт. Желая узнать больше подробностей, на следующий день я отправился к Михаилу Делба. Дом, в котором он жил в Сухуме, находился рядом с Ботаническим садом. Хозяин принял меня очень радушно, будто явился к нему хорошо знакомый человек, одет так, словно собирался идти в гости. Он, хоть и в преклонном возрасте, но былая красота и стать еще заметны, сразу делается понятно, что этот человек много повидал на своем веку, о многом знал.
И вот я, молодой, сижу в квартире, боясь лишний раз шевельнуться. Отметил, что библиотека богатая. Сказать правду, я очень стеснялся. Но письмо Леварсы, которое я принес с собой, давало мне силы прийти вот так, без предупреждения к такому уважаемому человеку. Я надеялся, что получу знания, которые помогут мне в работе над монографией.
Впервые Михаила Делба я увидел еще учеником Тамышской средней школы. Как-то осенью, в начале первого урока, наша учительница вошла в класс в сопровождении трех человек. Мы, ученики, сразу же дружно вскочили. Гости расположились за учительским столом. Один из них, как оказалось, тогдашний министр образования Сигуа, сразу же обратился к учительнице Тебре Кантария со словами: «Спрашивай урок у абхазских детей, хочу знать, насколько они выучили грузинский язык. Пора бы уже его знать». По нему было сразу видно, что он человек самовлюбленный, довольный своим положением.
«Мы проверяем знание грузинского языка не только абхазскими детьми, но и другими учениками тоже – грузинами, мегрелами, сванами», – мягко, но настойчиво сказал красивый человек, тоже сидевший за столом. Как позже мы узнали, это был председатель Совета Министров Абхазской АССР Михаил Делба. Третий человек, который сидел с полным ко всему безразличием, был руководителем отдела образования Очамчырского района Векуа. Все они были членами специальной комиссии, которая проверяла процесс изучения грузинского языка в абхазских школах. Комиссия была создана по указанию первого секретаря Абхазского обкома Компартии Грузии А. И. Мгеладзе.
Но вернемся к моей встрече с Михаилом Константиновичем Делба. Я попросил его прочитать письмо Леварсы Квициниа. Пока Михаил Константинович читал, я ждал, что он скажет. Вдруг он вытащил из кармана сложенный платок и промокнул набежавшие слезы. Я удивился: вроде бы, о нем в письме всего одна строчка, тогда что же могло его так растревожить… Некоторое время он молчал, потом отложил письмо в сторону и начал говорить. Я сидел молча и слушал.
– Руслан, письмо которое ты мне сегодня принес, это письмо нашего незабвенного Леварсы своему зятю. Оно мне дороже любых подношений. Не напрасно слезы у меня на глазах появились. Многое оно мне напомнило. Раз уж мы таким образом с тобой встретились, расскажу тебе некоторые истории. Буду говорить, конечно, о Леварсе, но в начале несколько слов о твоей монографии «Киазым Агумаа» хочу сказать. Читал. Понравилось. У нас есть немало писателей, о чьей жизни и деятельности стоит не одну монографию написать, но, к сожалению, этот вопрос все еще на задворках первостепенных наших задач. Есть, конечно, некоторые труды, но этого явно не хватает. Скажу: то дело, которым ты решил заняться, для нашей литературы очень важно. Самых больших успехов тебе желаю. Хорошо понимаю, что не так легко написать книгу, которая бы емко раскрыла и человеческую, и писательскую сущность определенного человека. В ней обязательно должны отражаться и твои – ответственность, опыт, знания и, конечно, любовь к самому писателю, о котором ты решил написать столь объемный труд.
Михаил Делба подбирал такие слова, что я вбирал их в себя там же, тотчас же. Он продолжил:
– Руслан, дад, ты наверняка знаешь историю, как Леварса попал в армию. Однако добавлю некоторые детали, которые тебе пригодятся как автору. Шел 1939-й год. Вторая мировая война еще не началась, но гитлеровский фашизм уже расправлял свои черные крылья. Леварса в ту пору возглавлял Союз писателей Абхазии. У него была бронь, мог не служить в армии. Однако случилось так, что находящиеся в одном здании Союз писателей Абхазии и Сухумский городской военный комиссариат повздорили. Причиной стало то, что одну из самых больших комнат Союза писателей «присвоил» себе военный комиссариат. Когда это случилось, Леварса был в Тбилиси, на съезде писателей Грузии. По возвращении он сразу же дал указание вынести из комнаты мебель и документы, принадлежавшие комиссариату, и вернул туда людей, которые до этого работали в этой комнате. Не прошло и месяца, как военный комиссар города добился того, чтобы Леварсе прислали повестку – идти служить в армию. Конечно, Леварса имел полное право проигнорировать этот документ – бронь защищала его. Но он не позволил себе быть втянутым в разборки и ушел в армию. За день до отъезда Леварса пришел ко мне попрощаться. Пока мы разговаривали, да и после того, как он ушел, я все переживал, что не могу ему ничем помочь и остановить его тоже не в силах. Это не пустые слова. Я говорю о том, что чувствовал тогда. Разумеется, я был уверен, что он не пришел просить меня о помощи. Истинный патриот своей Родины, он никогда не позволил бы себе такого. Это я должен был приложить усилия, чтобы он остался, но не смог. Хоть и был тогда председателем Верховного Совета Абхазии.
Сегодняшнему человеку не понять существовавшее в то время для абхазов политическое положение. Процесс растворения абхазского общества шел как никогда активно. Для этого было сделано все необходимое: алфавит был изменен, топонимика огрузинена, лучшие сыны Абхазии были объявлены врагами народа и сгинули в неизвестность. Буквально два-три человека из абхазов были на руководящих должностях, да и то для показухи. Школы абхазские закрыли в 1945 году. Есть люди, которые упрекают и меня, и многих других, которые в то время были на руководящих постах, в том, что мы не сделали то или это. Но… Не напрасно говорят: «Герой тот, кому не довелось встретиться с армией». Я абсолютно уверен, что тогда, когда происходило огрузинивание абхазов, когда убирали со своего пути все, чтобы ничего абхазское нигде не напоминало, когда эта политика безжалостно сносила все, идущее против ее намерений, сил бы наших не хватило пойти против этой системы. Попробуй мы нечто такое, то не только тех, кто посмел восстать, но заодно и весь народ могли стереть с лица земли. Доподлинно мне было известно, что в трех местах Абхазии – Акуаске, Тамыше и Ахали сопели стояли наготове железнодорожные составы. Идею выселения всех лиц абхазской национальности давно продумал Лаврентий Берия. Известно, что он дважды ставил вопрос о высылке абхазов перед Сталиным. Но, к счастью, вождь пролетариата не давал согласия. Видимо, он считал, что абхазов так мало, что их проще ассимилировать с грузинами, тем более что процесс этот уже был начат. А может быть, он не мог забыть, что абхазы его спасли, когда он прятался после ограбления корабля «Цесаревич Георгий». Возможно, тоненький голосок совести давал все еще о себе знать. Так или иначе, но «добро» на высылку абхазов он не дал.
– В те годы мы, абхазы, балансировали на грани жизни и смерти. Будущее было неопределенным и опасным. К счастью, наступил 1953 год. Сталина и Берия не стало. Появилась возможность вздохнуть, если даже не полной грудью, то хотя бы немного. Ленинская национальная политика придерживала закусивших удила грузинских шовинистов. Появилась мысль «авось пронесет», – продолжал Михаил Константинович. – Страницы нашей истории явно показывают, что абхазский народ прошел через жесточайшие испытания, но его правда, доброта, бесстрашие, отвага всегда приводили к хорошему концу. По сей день мы живы благодаря этим качествам. И тогда были, и сегодня не перевелись те, кто претендовал на нашу Родину. Зная это, мы должны быть наготове. У малых народов порох всегда должен быть сухим. Твой листочек, Руслан, мне многое напомнил, вернул в прошлое… Тебе спасибо большое за это, – завершил свой разговор Михаил Делба.
А мне хотелось, чтобы он говорил и говорил, потому что в жизни своей он повидал много интересного: и хорошего, и плохого, занимал ответственные посты, благодаря чему многое ему было известно и ведомо. Прекрасно разбирался в политике, имел глубокие знания в истории. После нашего расставания я много думал о нем.
…В 1953 году Михаил Делба написал письмо, которое адресовал Абхазскому обкому Компартии Грузии. В нем он развернуто говорил о том, почему не мог противостоять тем или иным губительным действиям. Но даже в тех условиях, в те страшные годы Михаил Делба делал все возможное на своем месте. Подтверждением моих слов является то, что в еще более страшные 30-е годы прошлого века Михаил Константинович написал и издал книгу «Дмитрий Гулиа – основатель абхазской литературы» (1937 год). Это было открытым противостоянием грузинским деятелям и их политике шовинизма. В книге говорилось, что абхазы как народ испокон веков живут на своей родине, имеют свою историю, свой язык, что развивается художественная литература, что есть целая плеяда молодых писателей, поэтов и ученых. Надо сказать, что в то время издать такую книгу было нелегким делом. Книга прославляла Дмитрия Гулиа как основоположника национальной культуры, да и вообще говорила, что существует эта национальная культура.
Еще один факт, связанный с Дмитрием Гулиа, о котором тоже мне рассказал Михаил Делба: «Дмитрий Гулиа прекрасно знал произведения грузинских классиков. Перевел их немало. Однажды при нашей встрече я ему намекнул, что было бы неплохо перевести на абхазский язык «Витязя в тигровой шкуре». Он сразу же уловил смысл моего предложения и сказал: «Благодарю, Михаил Константинович, услышал тебя…». Я обрадовался, что обошлись без расшифровки и многословия. Не раз работники КГБ спрашивали меня: «Чем занимается Дмитрий Гулиа?» После того нашего разговора ответ у меня всегда был наготове: «Переводит поэму Шота Руставели». Я знал прекрасно, что не литературная деятельность Гулиа их интересовала. Подоплекой таких вопросов всегда была грязная политика: была нужна хотя бы мало-мальская зацепка, чтобы потом ее раскрутить».
Даже этот факт является показателем того, что Михаил Делба прекрасно понимал значение и самого Гулиа, и его работы, понимал, что его могли бросить в бурлящие воды 1937-года, а замены ему у абхазов, возможно, больше может не быть. Поэма Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» всемирно известна, это – одно из самых прославляющих грузинский народ произведений. Михаил Делба понимал, что человека, который занимается переводом такого рода памятника культуры, грузины не тронут. Скорее всего, не тронут…
Книга «Витязь в тигровой шкуре» на абхазском языке вышла в 1941 году, редактировал академик С. Джанашия, ответственными редакторами были М. Делба и М. Гочуа, предисловие тоже было написано Михаилом Делба, в котором он показал себя ученым, литературным критиком, философом.
Как бы ни был занят Михаил Делба повседневными государственными делами, он всегда не просто интересовался процессом развития абхазской литературы. Он писал об этом на русском и абхазском языках. Отдельными книгами вышли монография, посвященная Дмитрию Гулиа, и философские работы: «По ленинскому пути», Сухум, 1961 г.; «Некоторые вопросы теории и практики ленинизма», Сухум, 1970 г. Возможно, Михаил Делба не смог сделать всего того, что ему хотелось для своего народа, но то, что он сумел сделал, нельзя ни в коем случае игнорировать. Как ученый он многозначен.
Михаил Константинович с трепетом относился к абхазской молодежи. В подтверждение приведу слова заслуженного врача Абхазии Константина Давидовича Ануа: «Мы, выпускники средних школ Цицина Барганджиа, Бубли Гагуа, Цакуа Делба, Изольда Званба и я, поступили в 1952 году в Тбилисский мединститут. Когда мы там учились, к нам в общежитие не раз приходил Михаил Делба. Он интересовался нашей учебой, бытовыми проблемами, нашим положением в студенческой среде, он говорил: «Абаапс, не подведите нас, учитесь. Вы необходимы будущей Абхазии. Помните, что медицине нужны знающие, образованные люди. Эта очень важная область». И почти всегда давал нам, студентам, деньги: «Далеко от родины лишними они не будут». И мы всегда знали, что в случае каких-либо проблем можем всегда обратиться к нему за помощью».
…Во время Отечественной войны народа Абхазии многое из личного архива Михаила Делба сгорело. Эта большая потеря. Но осталось и немало ценного материала. Считаю, что издание литературно-критических трудов и философских работ ученого Михаила Константиновича Делба внесет в область науки и литературы Абхазии много полезного.
Статью свою я хочу завершить словами немецкого писателя, ученого Г. Ликтенберга (1742 – 1799): «Быть человеком – значит не только обладать знаниями, но и делать для будущих поколений то, что предшествовавшие поколения делали для нас».
Перевод на русский язык
Светланы Ладария