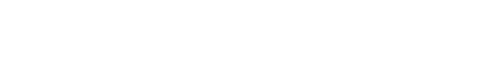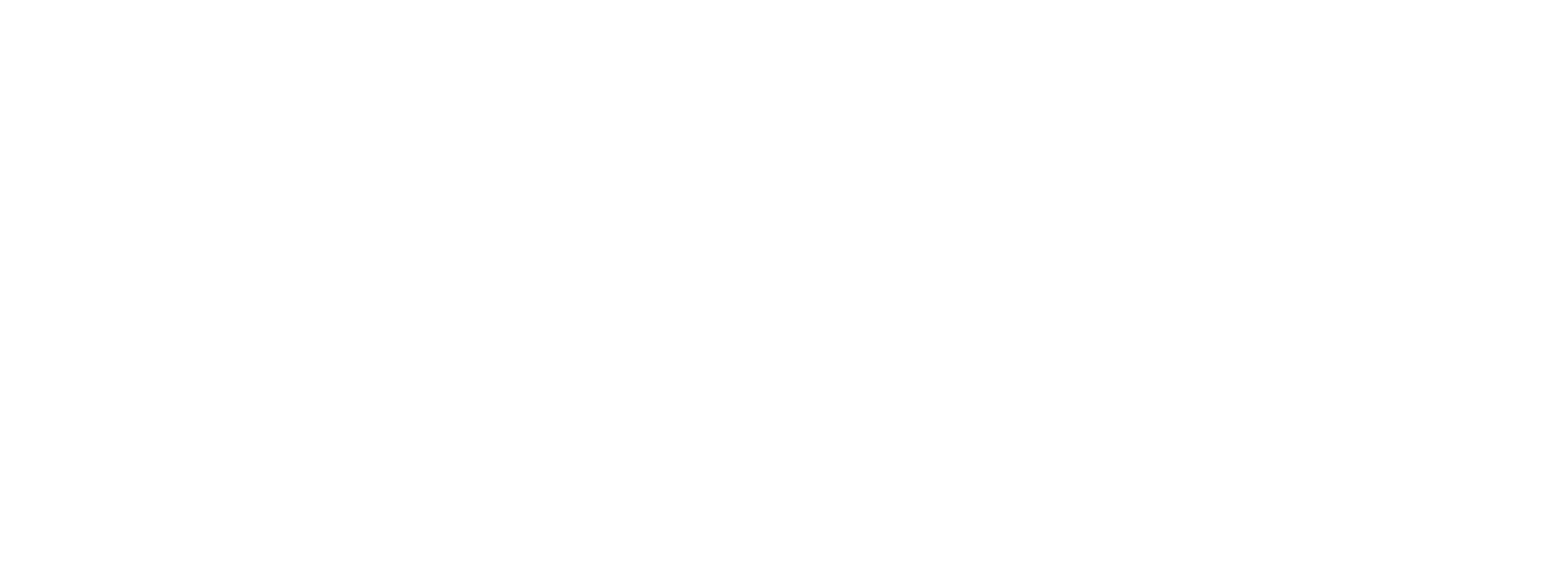Дорогой читатель, не вини меня за то, что разговор с тобой я начал с тех принципов, с тех факторов, к которым имею личное отношение. Это не романтическое отступление и не самовосхваление. Я так сделал потому, что все, о чем буду говорить, – из реальной жизни, и это – первое, а второе – считаю, что все это имеет прямое отношение и к этой статье тоже.
Семья, в котором я родился и вырос, была истинно абхазской. Мои бабушка и дедушка – Елсабед и Екуп – родили и воспитали шестерых дочерей (Хаптит, Хаптина, Матиа, Мачыч, Цацу, Мыша) и пятерых сыновей (Дзадз, Дзыкур, Степан, Хуанеи, Шарах). С божьего благословения жили они хорошо – земли было много, да еще она была очень плодородной, каждая косточка, ненароком упавшая, давала росток; скота домашнего было столько, что и сосчитать не могли. То, что в этих местах некогда кипела жизнь, горели очаги в домах абхазов, говорят все еще сохранившиеся названия остатков башен – Ачапара, Гора Абааж, Малая Ачапара. Природа здесь неимоверно красива. С этих вершин кажется, что далекие дали лежат у самых твоих ног. Сколько раз я сам, когда приезжал домой из Сухума, соскучившись по необыкновенным здешним видам, поднимался на близлежащие горы! Здесь я чувствовал особое тепло, идущее от сердца, иначе, чем в другом месте, ощущал гордость за свою нацию, за свой народ, потому что отсюда, с этой малой родины, начиналась моя большая родина – Апсны. Здесь брали свое начало все атрибуты моей апсуара.
Говоря об этом, я вспоминаю, как тогда, когда был еще маленьким, особенно длинными, зимними вечерами, сколько сказок, героических рассказов, песен я слышал в этом доме. Как же я любил их слушать, сколько удовольствия они мне доставляли. Нынче, уже в преклонном возрасте, я могу не колеблясь сказать: любовь к книге и писательству идут оттуда. Позже, когда я начал читать абхазские книги, эта любовь удвоилась, утроилась. Сколько себя помню, книги имели свое особое место в большой комнате нашей акуаски. Эти книги были из библиотеки Хухута Бгажба и Чичико Капба. До сих пор кажется, что я слышу слова Чичико Капба перед его уходом на войну: «Как бы что с нашими книгами не случилось!».
– Дад, Чичико, эти книги здесь, дома. Ничего с ними не будет. Не переживай за них. Только вы, отправляющиеся на защиту Родины, возвращайтесь целыми и невредимыми. Возвращайтесь с победой! – успокаивал Чичико его дядя Дзадз. Может, и не все, но большая часть этих книг сейчас находится в моей библиотеке. Для меня они бесценны.
Безусловно, мою любовь к абхазским писателям и абхазской книге подпитывали мои братья Хухут и Хакыбей – сыновья моей тети Матии, и Чичико – сын моего дяди. Мы все выросли в доме деда Екупа. Если говорить о моем двоюродном брате Хухуте Бгажба, то отмечу, если я смог внести какую-то свою лепту в развитие абхазской литературы, то это благодаря ему. С самых школьных лет он пристально следил за моим образованием.
Крайне важен еще один жизненный факт: во времена учебы в школе и в нашем педагогическом институте мне посчастливилось быть рядом с теми, кто искренне был предан своей Родине, своему народу, родному языку, с теми, кто в последующие годы внес большой вклад в развитие нашей культуры, литературы, с теми, кто сегодня известен не только в Абхазии, но и за ее пределами. Я постоянно чувствовал их плечо, меня поддерживали их не по годам мудрые советы. Это имело для меня большое значение, даже по сей день все это для меня ценно. Болит душа оттого, что многие из них покинули этот мир, что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Пусть мир иной будет для них раем. Их имена навечно вписаны в историю нашего народа и нашей страны. Возможно, всех не сумею здесь перечислить, но отмечу некоторых, с кем мне посчастливилось быть рядом, быть другом: Борис Гургулиа, Платон Бебиа, Терент Чаниа, Иван Асадзба, Рушни Джопуа, Чичико Когониа, Владимир Агрба, Джота Амичба, Константин Ануа, Константин Квициниа, Бубли Гагуа, Цицина Барганджиа, Гиви Микаа, Вало Саканиа, Владимир Анкваб, Анатолий Возба, Шурбей Царгуш, Владимир Чуаз, Нелли Тарба, Сарион Таркил, Нелли Адзынба… Друзья, с которыми меня свела судьба по работе: Шота Чкадуа, Шалико Камкиа, Алыкса Джениа, Мушни Ласуриа, Рауль Ласуриа, Шалодиа Аджинджал, Владимир Авидзба, Виталий Амаршан, Шамиль Плиа и многие другие. Все они были ярыми борцами за счастье своей Родины. Это во многом и объединяло нас, делало едиными в своих действиях, мыслях, мечтах, делало так, что мы одинаково чувствовали боль и горести своего народа и страны. А любовь, зародившаяся сызмальства к абхазской литературе, получила свое законное продолжение, благодаря истинным патриотам – моим преподавателям и старшим друзьям. Это – Мария Лагвилава, Владимир Бганба, Кант Каджая, Вианор Зантариа, Георгий Бжаниа, Надежда Кобахия, Татьяна Гулиа, Георгий Гублиа, Маргарита Ладария, Павел Адзынба, Хазарат Аргун, Тамара и Екатерина Шакрыл, Антон Адлейба, Анатолий Зухба... Не без основания я говорю об этом вновь и вновь. Этот реальный фактор остается в моей жизни и в моей памяти, потому что благодаря ему я стал тем, кем являюсь, и состоялся как литературный критик. Диалектика человека подсказывает ему, что он обязан знать свои корни, свои истоки. Только тогда он в силах заглянуть в будущее, видеть свой путь.
Я обратил внимание на все это не потому, что считаю, что наше поколение сделало то, что другим не под силу, а потому, что хочу отметить какими были наши взаимопонимание, взаимоуважение, взаимоотношения, потому что хочу, чтобы и в нынешнее сложное время было понятно: принципы согласованности должны быть незыблемыми в жизни абхаза, и им должны следовать все, от мала до велика.
Хочу сказать еще об одном, что перекликается с этой моей статьей. На последних курсах института у меня появилось желание писать о той или иной прочитанной книге свое мнение. Но мне бывало боязно, казалось, что заниматься такими вещами еще рано. Хотелось больших знаний, большего кругозора. В марте 1963 года я довольно-таки серьезно заболел гриппом. Лечился в Сухуме, потом в Тбилиси, в клинике академика Сараджишвили. Спустя два месяца, выписывая меня из клиники, лечащий врач Натела Шенгелия сказала, чтобы я не утруждал свой ум, что болезнь ослабила мой организм. (А мною к тому времени к изданию уже была подготовлена монография «Киазым Агумаа», которая в 1964 году и вышла). К счастью, усилия моих врачей, мои молодые годы и то, что я рос в горном селе Арасадзыхе и дышал его чистым воздухом, дали мне силы не прерывать мое стремление к писательству. С тех давних пор я и пишу книги, посвященные проблемам абхазской литературы. Не это ли счастье! Иногда слова, которые я, подшучивая над собой, говорю: «Не напрасно отец мой Хонеи, царствие ему небесное, произвел меня на этот свет!», подтверждают это счастливое состояние. А значение строк великого и бессмертного М.Ю. Лермонтова «Боюсь не смерти я, о, нет! Боюсь исчезнуть совершенно» изменили мою судьбу.
Русский философ, писатель, критик Н.Г. Чернышевский, говорил, что любой предмет имеет свою историю. Я это вспомнил, потому что все мои научные работы тоже имеют свою историю. Мне кажется, что это должно быть интересно не только сегодняшнему читателю, но и будущему, потому что духовная культура – сродни природе, она показывает, какой путь прошел исследователь, автор во время своей работы. Я остановлюсь на монографии «Леварса Квициниа», которая в 2008 году вышла в Абхазском государственном издательстве в дополненном виде. Мне кажется, то, о чем там я говорю, те факты, которые я привожу, и те лица, с которыми я встречался и разговаривал во время ее написания, интересны современному человеку и говорят ему о многом.
Уважаемый читатель, теперь я расскажу о том, как собирал материал для написания этой книги, с кем довелось встретиться, какие документы оказались в моих руках, и как они легли в основу самой книги.
***
…Отправляюсь в поселок Нахурзоу села Атара. Это – малая родина поэта. Еду и мне кажется, будто доселе я здесь никогда не бывал. Меня пронизывает какое-то особенное, теплое чувство. Во всем вижу что-то новое, подмечаю нечто особое, потому что это село, в котором родился и вырос Леварса Квициниа. Каждая мелочь напоминает мне о нем. Слышу его строки, в которых он говорит о своем отношении к Родине и народу:
Если вдруг наступит
время такое,
Что не будет иного решения –
Кроме, как идти
за Родину в бой.
Не отступлю я,
не становлюсь,
Разве сможет
обуять меня испуг?
Исполню мужчины,
безропотно, долг,
Возьму ружье и в бой пойду.
Вот и обитель поэта. Широкий двор, огороженный колами из сухого каштанового валежника. Чуть поодаль стоит вечнозеленая лавровишня. Она из тех деревьев, которые поэт посадил еще в детстве. Сзади дома орешник и сад разбиты. На цементных столбах, высотой около метра, поднята каштановая акуаска. Крыша покрыта черепицей. Резные перила украшают лестницу. Дом постройки 1912 года. Отсюда взгляд простирается в дальние дали, ни за что не цепляясь. От побережья можно перевести взгляд на высокие горы и обратно. Как же тут прекрасна природа! Не описать словами. Стою и не могу наглядеться. Все это дополняет мою любовь к поэту, которого я никогда не видел. Да, здесь в 1912 году родился будущий поэт.
Брат Леварсы Квициниа Андроз очень обрадовался, когда я ему рассказал о цели визита. Сначала он долго молчал, потом, собравшись с духом, начал рассказывать о брате. Завершил свой долгий разговор словами:
– Дад, Руслан, пусть начатое тобой дело заспорится в твоих руках. От нас мало толку. Ни фотографии, ни письма, ни записи моего несчастного брата у нас нет. Единственное напоминание о нем – вот эта лавровишня, – сказал он с грустью. При расставании посоветовал обратиться к сестре, которая замужем в селе Адзюбже за человеком по имени Куаста Жваниа: «Он, как и мой брат, сгинул во время войны. У сестры есть фотографии Леварсы и несколько писем».
Я поехал в Адзюбжу. Узнав цель моего приезда, сестра Леварсы расплакалась, будто вчера потеряла брата. Не напрасно говорят, что слезы сестры по брату могут заставить высохнуть даже зеленую траву. Она дала мне фотографии и письма.
Известно, что для писателей имеют большое значение рассказы людей, их записи, воспоминания, различного рода документы. В русской, грузинской, армянской, других литературах о писателях, ушедших в мир иной, собирают такие материалы и издают их отдельными книгами. Такая подача говорит многое читателю. Мы, к сожалению, все еще не смогли подготовить такую книгу, посвященную основоположнику нашей литературы Дмитрию Гулиа. Правда, в дни юбилеев Дмитрия Гулиа и Иуа Когониа в наших журналах и газетах печатались и печатают интересные воспоминания. Только собрать их в отдельную книгу не получилось. Зачем таить, в абхазской литературе этот вопрос пока развит недостаточно.
Если говорить о письмах, то приведу один, не очень приятный, пример. Не думаю кого-нибудь обидеть, но если такое будет иметь место, все равно не хочу пройти мимо.
Когда я начал собирать документы о Леварсе Квициниа, решил пойти в школу в селе Атаре, в которой он учился. Там мне сказали, что в сельсовете лежит письмо от однокурсника Леварсы из Московского литературного института имени А.М. Горького. Я был несказанно рад такой новости. В моем деле это было подарком судьбы. Доставили мне это письмо. Оно не было распечатано, хотя написано было 2 июля 1965 года, а я был в Атаре в том же году, но только в декабре. То есть пять месяцев письмо лежало в ящике стола. Приведу несколько строчек из письма Петра Рябинина атарцам: «Дорогие мои атарцы, друзья, родственники и односельчане Леварсы! Вам, конечно же, я не знаком. Но меня хорошо знал талантливый, умный че ловек, который не выпячивал себя, прекрасный поэт Леварса Квициниа… Был он человеком широкой души, настоящим товарищем. Даже в материальном плане. Хоть и ему не всегда было легко, он готов был поддержать своих друзей. В нашем институте Леварса Квициниа был одним из самых знаменитых студентов. В нем предугадывался великий поэт. После института мне больше не удалось встретиться с Леварсой. И до войны его произведения печатались в российских газетах и журналах. Читал с огромным удовольствием, часто писал ему свое мнение о прочитанном. Тогда он был председателем Союза писателей Абхазии. Потом началась война. С тех пор я потерял его. Однажды я купил сборник стихов под названием «Стихи поэтов, погибших в Великой Отечественной войне». Книга была издана в Ленинграде. На 263-й странице я увидел стихи моего друга студенческих времен Леварсы Квициниа. В его биографии писалось, что он погиб в самом начале войны под Белостоком. Передо мной будто живой встал мой друг, веселый, улыбчивый, многообещающий поэт – Леварса. Для меня он навсегда останется живым. Вечно он будет в моей памяти…
Уважаемые родственники, прошу подробнее написать мне о Леварсе, о его жизни. Если возможно, пришлите мне его фотографию. Сложившие головы за нашу Отчизну должны быть бессмертны. Для них можем сделать многое мы – живые. Я горд тем, что дружил с Леварсой, прекрасным поэтом, отважным воином, бесстрашным человеком. С нетерпением жду вашего ответа. С уважением, друг вашего Леварсы Петр Рябинин. Город Чериков. 25.07.65 г.»
Мне не могло не доставить боли то, что такое письмо несколько месяцев лежало в ящике стола местного «чиновника», который даже не удосужился его открыть и прочесть. Петр Рябинин обращался к жителям села, просил, чтобы написали ему, прислали фотографию. Накрывал стыд за то, что письмо было так проигнорировано, то ли из-за недальновидности, то ли из-за непонимания величия личности поэта.
Петр Рябинин ответил на письмо, которое я ему отправил. С обидой он писал: «В стране, где не чтят мертвых, не любят живых».
Было стыдно оттого, что он говорил правильные слова.
Испокон веку считалось, что рукописи авторов и личная переписка являются литературным наследием, и это нужно беречь для будущих поколений. По поводу этого в печати выступил поэт, академик Мушни Ласуриа со статьей «Где рукописи наших писателей?» И вот что он пишет: «Неужели в нашей республике нет возможности открыть литературный музей или Дом литераторов и творческих работников, где можно было бы увидеть материалы, посвященные жизни наших великих писателей, артистов, деятелей духовной культуры, где бы лежали их биографии, рукописи, личные вещи? Неужели нельзя создать некий центр или архивный фонд? В столицах других республик, почти везде есть такие музеи, музеи-квартиры, архивы. История нашей литературы и искусства дает нам на это право. Тем более, что наша национальная литература является молодой. Нам стоит ее оберегать и хранить как зеницу ока».
Вопрос, поднятый Мушни Ласуриа в 80-е годы ХХ века, хотя с того самого времени произошли очень большие изменения: развалили Советский Союз, Абхазия прошла кровавый военный путь, все еще не сошел с повестки дня, остается весьма актуальным.
(Окончание
в следующем номере)