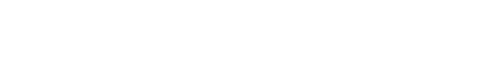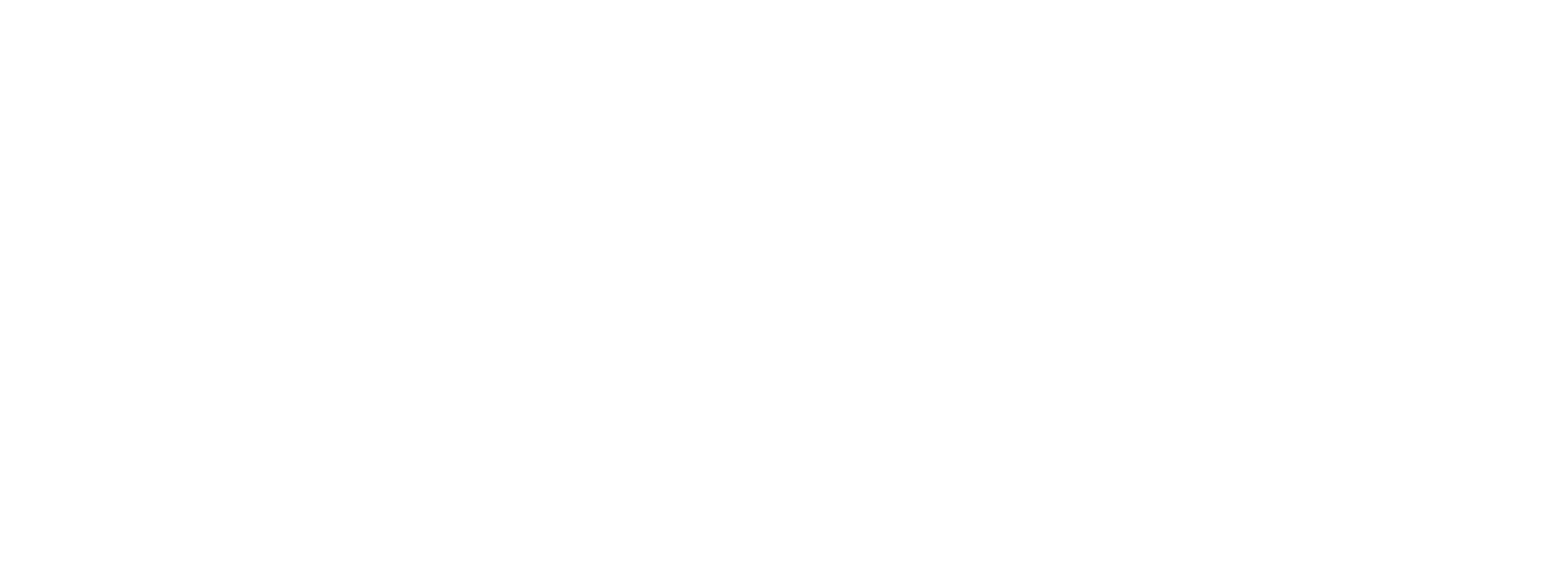Боевые традиции – это исторически сложившиеся обычаи и правила, ставшие нормой поведения защитников Отечества, активно побуждающие их честно и добросовестно служить своему народу, Родине и в мирное время.
Человек наделен способностью (не каждый, конечно) оценивать что-то дороже, чем свою жизнь. Да, действительно, есть что-то сильнее смерти. В минуту опасности человек либо теряет самообладание и превращается, попросту говоря, в труса, либо, наоборот, все его духовные и физические силы: ненависть к врагу, любовь к Родине – как бы концентрируются в одном порыве, в одном стремлении противопоставить себя врагу. Так было, есть и будет всегда, независимо от того, какой перед тобой враг: то ли это наводнение, то ли пожар, то ли захватчик. И когда это чувство – чувство опасения за судьбу своей Родины – превышает шевелящийся в любом сердце страх за собственную жизнь, то человек со всеми его помыслами, поступками, делами отдается во власть самого высокого – долга перед Родиной.
Чувство Родины живет в каждом человеке. Соединение чувства любви к Родине с готовностью ее защитить – характерная черта патриотизма (от. греч. patria — родина).
Яркое пламя патриотизма достигло величайших высот в трудные дни Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Готовность, не щадя жизни, защищать Отечество вылилось в массовый героизм народов Советского Союза на фронте и в тылу.
С началом Великой Отечественной войны каждый понимал, что, защищая советское государство, он защищает, прежде всего, свою землю, т. е. национальную территорию, где испокон веков проживал его народ, где находятся могилы его предков. На борьбу с врагом встали все народы Советского Союза – как большие, так и малые. Внес свою лепту в эту священную борьбу и малочисленный абхазский народ. Как известно, за годы войны из Абхазии было призвано в ряды Советской армии и Военно-Морского флота 55,5 тыс. человек. Из них число погибших и пропавших без вести на фронтах войны составило 17,5 тыс., т. е. третья часть призванных не вернулась с поля боя.
Да, война изменила судьбы миллионов людей, приковала к себе внимание многих будущих поколений. Задумаешься иной раз: сколькими бесценными произведениями искусства, научными открытиями, техническими находками обогатился бы мир, не унеси война миллионы жизней! Но в ней, в этой страшной многолетней битве, не потерялись имена тех, кто решил судьбу битвы так, как не могло не решиться. И снова хочется произнести: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Когда над землей нависла смертельная угроза, когда раз и навсегда решалось быть или не быть, село Хуап Гудаутского района послало на защиту Родины 87 своих лучших сыновей. Едва прозвучало: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!», как десятки деревенских парнишек сменили свои национальные блузки на защитные гимнастерки. Мамед Анкваб, Котат Анкваб, Котик Бебия, Ладико Григолия, Антипа Барганджия, Харитон Хашиг, Чинчор Зантария и многие другие, жизни которых оборвались в пору расцвета. Все такие разные по характеру и внешности, но единые в одном – в каждом сердце горел огонек, осветивший путь к подвигу.
Хоть и невелико село Хуап, а сколько из него ушло защищать Родину! Верные воинской присяге, все они, не щадя своей жизни, отстаивали каждую пядь советской земли. В борьбе за Отчизну погибло более половины ушедших на фронт – 47 парней. Не согнулись они перед губительным страхом, а противопоставили всем смертям свою волю: волю выжить и победить. Именно поэтому они шли на смерть, а те, кто выжил – пришли к Победе. И пусть досталась она немалой ценой. Пусть иные из победителей стали седыми в юности, но они победили!
Не вернулся с фронта и Мамед Бидович Анкваб. Родился он в 1900 году в селе Джирхуа Гудаутского уезда, в крестьянской семье. Отец его занимался земледелием, что было единственным источником существования, а мать из рода Квадзба (село Эшера Сухумского района) была домохозяйкой. Мамеду было 10 лет, когда он лишился отца, остались сиротами с младшей сестрой Назией. Вскоре молодую вдову с маленькой дочкой забрали ее родители. А Мамед до юношеской поры воспитывался в семье двоюродной сестры (дочь сестры отца) в селе Ачандаре. Там он поступил в местную начальную одноклассную школу (с трехгодичным сроком обучения, т. е. школа с тремя отделениями, где в каждом отделении обучались один год), но вскоре ввиду тяжелого материального положения вынужден был оставить ее. С малых лет трудолюбивый Мамед, увлекавшийся садоводством, вернулся к отцовскому очагу в селе Джирхуа, занялся крестьянским хозяйством.
Рос Мамед во времена, когда обнищавшее крестьянство Абхазии переживало неслыханные тяготы и лишения, принесенные Первой мировой империалистической войной, когда царил разнузданный произвол царских чиновников и местной дворянской знати. На всю жизнь запомнилась ему, крестьянскому пареньку, трудная жизнь, вызвавшая жгучую ненависть к социальной несправедливости.
В 1917 году, когда в России было безвластие, да и в Абхазии тоже, у молодого Мамеда формируется классовое самосознание, он стал принимать участие в революционной борьбе против меньшевистского правительства. В 1918 году, в период упорной, ожесточенной борьбы для установления власти Советов, он участвовал в оборонительных боях против контрреволюционных войск. После временного поражения ушел в подполье, т. е. находясь в бегах от преследования властей, переехал в г. Батум (к младшему брату по матери), где принял участие в переброске оружия.
Когда весной 1921 года при поддержке Красной Армии была восстановлена советская власть и постепенно начала строиться новая жизнь, он купил дом с участком и начал жить в Гудауте.
Так как во время советизации земельные наделы перешли в руки крестьянства, Мамед Анкваб в середине 20-х годов в селе Хуап, у подножья высоких гор величавого Бзыбского хребта, был наделен четырьмя десятинами земли (кстати, он один из первых Анквабовцев, которому понравилась эта высокогорная местность, и поселился здесь), где заложил виноградный сад и посеял привезенные им (впервые в Бзыбской Абхазии) семена цитруса. А во второй половине 30-х годов он построил двухэтажный дом и с семьей переехал сюда жить. Естественно, принимал активное участие в общественной жизни села: организация кооперации, коллективизация и т.д. Перед началом войны Мамед работал писарем (секретарем) исполкома Отхарского сельского совета. Всюду его отличали трудолюбие и добросовестное отношение к порученному делу.
Почти с первых дней Великой Отечественной войны, в начале июля 1941 года, Мамед призывается с Гудаутского РВК в ряды Советской армии. Известно, что для проведения оборонительной операции в Крыму призванных до конца 1941 года из Абхазии и других регионов Черноморского и Азовского побережий парней отправляли в г. Кутаиси для спецподготовки, после чего они должны были участвовать в Керченско-Феодосийской операции 1942 года. И таким образом, на исходе декабря 1941 года стрелковый полк, в котором служил Мамед Анкваб, был переброшен в направлении Керченского полуострова.
С начала мая 1942 года на подступах к городу Керчь, на территории Ленинского района, развернулись жестокие сражения. Враг, пытаясь остановить советские войска, предпринял яростное контрнаступление, в результате которого коммуникации советских подразделений были перерезаны вклинившимся противником, и две советские армии – 47-я и 51-я на открытой местности площадью 18 километров в степной части Северного Крыма оказались в окружении. Противник стремился во что бы то ни стало ликвидировать плацдарм советских войск. Несмотря на потери, он шел на таран, остервенело рвался вперед, и клещи окружения все теснее смыкались. На обороняющихся обрушивалась масса сплошного артиллерийского урагана и бомбового огня, что все смешивалось с землей. Под прикрытием невиданной силы огня в атаку шли фашистские танки и автоматчики. Трудно было понять, что происходило: земля вздрагивала, все кругом гудело, все смешивалось в дыму, в разрывах бомб. Враг упорно продвигался вглубь; командование, учитывая значение захвата полуострова, имевшего большое стратегическое значение для дальнейшего развития наступления, вводило в бой все новые и новые силы пехоты, танки и авиацию.
Настали тревожные дни. Под натиском численно превосходящих сил противника советским войскам день за днем приходилось оставлять территорию со значительными потерями... Керченский пролив кипел и пенился, словно на дне его развели огромный костер. Нужно было либо преодолеть пролив, либо... Но преодолеть глубокое, холодное водное пространство шириной три километра уставшим и голодным солдатам, у которых и боеприпасы были на исходе, представляло большую трудность. Пролив пылал. Никогда никто не поверит, что вода может гореть, но она «горела».
Сколько в те дни осиротело детей, овдовело жен, осталось в вечном ожидании сестер, матерей...
Но воины Советской армии не падали духом. В суровые дни жестокой битвы за Керченский полуостров мужественные защитники свято выполняли клятву, данную Родине – «стоять насмерть...». Находясь в окружении, они продолжали вести оборонительные бои. Однако судьба Керченского полуострова была предрешена.
По данным архивных документов истории Второй мировой войны, из-за ошибок советского командования весной 1942 года чуть больше чем за неделю в районе села Парпач (ныне Батальное) на Керченском полуострове погибли оказавшиеся в окружении 110 тысяч солдат Советской армии и ещё 170 тысяч попали в плен, где каждый второй был тяжело раненным. Тогда под огнем врага оказались уничтожены документы со списками личного состава полковых и дивизионных штабов. В связи с чем многие семьи до сих пор не могут установить судьбу своих пропавших родных.
Керченский полуостров – единственное место на карте сражений Великой Отечественной войны, где в одном месте погибло или пропало без вести больше всего выходцев из Абхазии. После захвата Керчи и ее полуострова немецкие армии перешли в наступление на Севастополь, и вскоре город был захвачен. И на этом направлении еще 80 тысяч солдат и офицеров попали в плен. Таким образом, всего в Крыму оказались в плену у немецких нацистов более 200 000 воинов Советской армии, в числе которых и был Мамед Анкваб.
Мамед прекрасно понимал, что война требует смелости, бесстрашия и находчивости. И поэтому он с первых дней был в рядах мужественных сынов Родины, отстаивавших ее честь и свободу. Да, гибель подстерегала на каждом шагу. Но несмотря на все это, сохраняя хладнокровие до последней минуты своей жизни, он сражался, не зная страха. Любовь к Отечеству и жгучая ненависть к врагу были источниками его стойкости и мужества.
Мамед, находясь в действующей армии, не порывал связи с родными, писал жене и детям, шли в родную Абхазию фронтовые треугольники. Да, солдатские треугольники... На чем только они ни написаны – и на обрывках афиш, и на оберточной бумаге, и на чем-то не поддающемся определению. Только этой «тоненькой» ниточкой и жили семьи бойцов. Письма... Ведь в минуты опасности человек доверяет письмам все самое значительное, самое сокровенное, все, что составляет сущность его души. И заканчиваются все одинаково – непреклонной уверенностью в Победе. В одном из своих писем он сообщал супруге Дзыкут (Соне) Шамба-Анкваб: «Знаю, Дзыкут, тебе очень трудно одной, но держись. Близятся тот день и час, когда будет окончательно разгромлен и стерт с лица земли озверелый враг. Скоро встретимся». Письмо это, датированное апрелем 1942 года, было последним.
Давно уже кончилась война. Вернулись многие односельчане. Уже и свадьбы сыграли... А Дзыкут Мустафовна, мать четверых детей, все ждала... Да, она рано потеряла мужа, но сумела воспитать детей достойными. Сын Владимир трудился сперва в колхозе, а затем в сельсовете родного села Хуап: был бригадиром, счетоводом, кассиром; долгие и в самые тяжелые годы 1992-1993-е годы являлся главой Администрации села. А все три дочери: Нина, Ирина, Цина – замужем, счастливы своими детьми, внуками, правнуками. Только бабушка Дзыкут каждое утро и перед закатом солнца всматривалась в дорогу. И томительные дни ожидания превратились для нее в смысл жизни. Через 42 года после Великой Победы, на 88-м году своей жизни ушла она в мир иной.
Тема пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – малоизвестная тема, которая не может никого оставить равнодушным. По сведениям исторических документов, число попавших в немецкие концлагеря насчитывает 6 миллионов солдат и офицеров Советской армии. Из них более 5 миллионов погибло. На сегодняшний день более 4,5 миллиона из стран бывшего Советского Союза числятся без вести пропавшими, в том числе из Абхазии – 8 000 человек. Все данные военнопленных, по решению руководства страны Советов, до недавнего времени были засекречены, т. е. эти сведения не были доступны. Их родные: матери, отцы, сестра и братья, жены и дети на основании извещений военных комиссариатов – все это время знали только то, что их родственники «пропали без вести».
Семья Мамеда Бидовича, как и многие семьи в Абхазии, долгие годы (можно сказать, и всю жизнь, так как его сын Владимир умер с болью в душе в начале мая 2019 года, так и не узнав судьбу своего отца), разыскивала отца (и деда), обращаясь во многие ведомства разных инстанций Советского государства, а затем и России, но 74 года результатов не было.
В начале сентября 2019 года благодаря военно-историческому проекту «Возвращение имени» (руководитель Григорий Скворцов) стало известно о судьбе Мамеда. Согласно архивному немецкому документу – учетному листу военнопленного, который удалось восстановить участникам проекта, рядовой Анкваб Мамед – один из тех солдат, который в мае 1942 года, когда Советская армия была парализована и несла огромные потери при обороне Керченского полуострова, оказался в плену тяжело раненным. Был узником концлагеря немецких нацистов «Шталаг – 319 А», что находился в районе нынешнего польского города Хелм, где и умер 13 сентября 1942 года. Похоронен на одном из двух интернациональных кладбищ, в которых покоятся больше 100 тысяч безымянных советских военнопленных.
Тема истории войны 1941–1945 гг. во всем ее многообразии по-прежнему важнейшая в современной гуманитарной науке, требующая объективного научно-исторического исследования с позиции современного знания, направленная на формирование национального духовного сознания.
Наши деды защитили наше будущее, а мы просто обязаны защитить их память. Историческая память должна формироваться всем укладом нашей жизни, всем духовным климатом нашего общества.
С каждым часом все дальше и дальше становятся годы Великой Отечественной войны, но верно то, что герои не умирают, их жизнь продолжается в свершениях наследников.
Мамед Анкваб – один из тех героев, которые грудью встали на защиту Керченского полуострова. Их имена навеки вошли в летопись Великой Отечественной войны. В доме доблестного воина Мамеда Анкваб ярко горит очаг, согреваемый доброй памятью о нем.
В этом доме жизнь продолжают его внуки и правнуки. А совсем недавно, в начале года 80-летия Победы, родился еще один продолжатель рода – праправнук Еснат.
Теперь скажу и о том, что Мамед Бидович – мой родной дедушка. И я горжусь им!