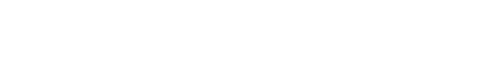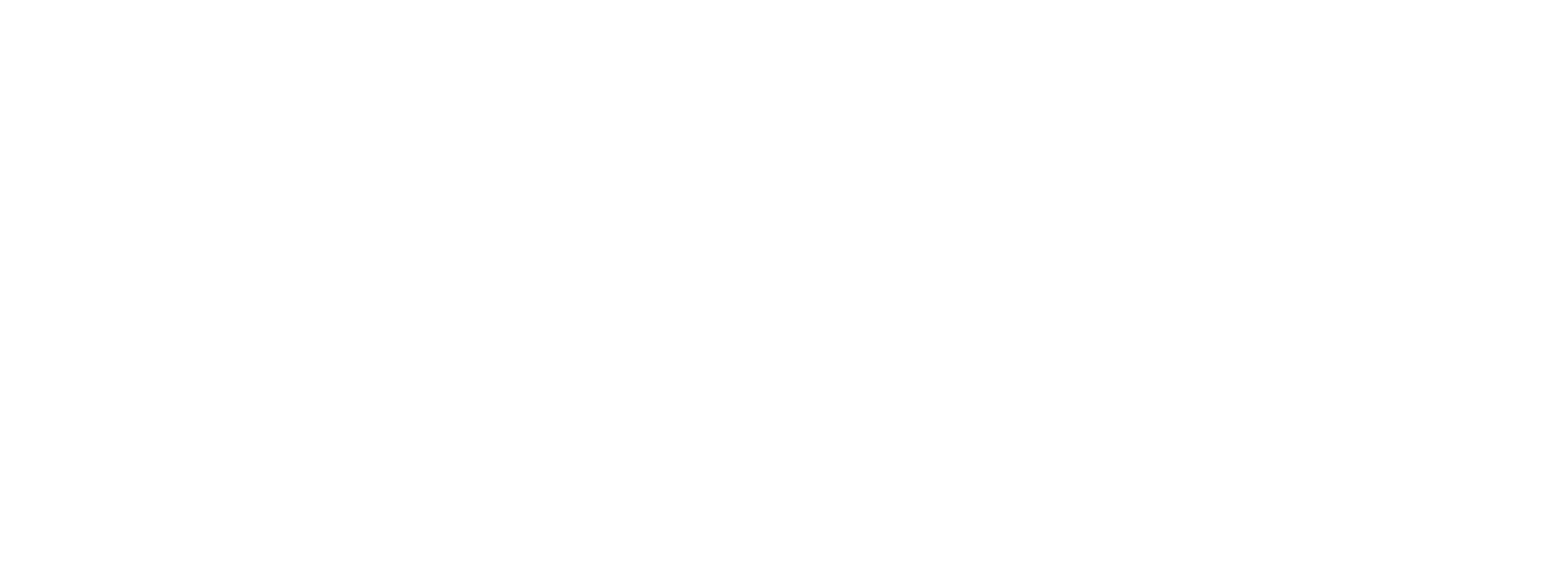Приятной неожиданностью стало для меня приглашение в Ереван, на семинар, который должен был провести известный тележурналист, политобозреватель Александр Каверзнев. Я прибыл в Ереван, в гостиницу «Ани», где планировалась встреча. Однако, насколько помню, семинар отменили в связи с тем, что Каверзнев заболел, а меня организаторы оповестить не успели. Я не растерялся. Не стал покупать билет на обратный путь. Чуть отдышавшись в фойе отеля, решил взять такси и поехать к своим коллегам на Армянское радио. Там я никого не знал, но понадеялся на «корпоративную» поддержку. В Ереване я никогда не был. Хотелось, конечно, хоть бегло ознакомиться с достопримечательностями «розового города», пленяющего своей неповторимой красотой, но без помощи друзей вряд ли мне это удалось бы сделать.
В главной редакции радио меня с особым радушием и теплотой встретил шеф общественно-политической службы Карлен Яланузян. За чашкой предложенного кофе я узнал, что он родом из Абхазии.
Я не хотел никого беспокоить. Но мои «хитромудрые» абхазские намеки по поводу того, чтобы в тот же день отправиться в аэропорт и улететь в Сухум, были напрочь отвергнуты добродушным и на редкость гостеприимным Карленом. Он позвал к себе друзей и быстро обмозговал с ними план действий. Сначала поселили меня в гостиницу «Армения», неподалеку от главного поющего фонтана. Там же, в роскошном баре, дали мне почувствовать терпкость и соблазнительную горечь настоящего армянского коньяка, потом мы совершили небольшую прогулку по городу, а вечером друзья подняли меня на каком-то самодельном эскалаторе на крышу многоэтажного жилого дома, где размещались мастерские известных армянских художников. Отсюда как на ладони был виден весь вечерний Ереван. Мастера кисти и резца окунули меня в свою творческую атмосферу, показали свои незавершенные работы, быстро приготовили кофе. За беседой они стали интересоваться событиями 1978 г. в Абхазии, всколыхнувшими всю бывшую советскую сверхдержаву. Разговор продолжился за вкуснейшим ужином. Меню было необычное. Шашлыки по-армянски, жареные баклажаны, сыры, горячие армянские лаваши и прочая редкая снедь. Но весь этот ассортимент не имел бы смысла, если бы вдруг на длинном столе, за которым уместилось, как минимум, человек десять, не появилось несколько бутылок пшеничной водки и бальзама. Поднимали тосты, делились мыслями о литературе и искусстве, говорили о политике, чувствовалось, что рано или поздно появятся первые симптомы конфликта по Нагорному Карабаху и, видимо, поэтому армянских парней интересовали нюансы сложных грузино-абхазских взаимоотношений.
Поздней ночью мы спустились на том же эскалаторе, странным образом подвешенном к краю крыши той незабываемой многоэтажки. Я уже не помнил даже о несостоявшемся семинаре по жанру радиоинформации. Карлен и его друзья по изобразительному искусству повезли меня куда-то по ярко светящимся проспектам ночного Еревана. Выходим из машин, ребята достают из багажа какие-то вещмешки и сумки. Чувствую, что-то из запасов тех вкусностей, приготовленных на крыше сказочной многоэтажки.
Меня ведут в подвал. Здесь нас встречает еще один замечательный ереванец, молодой художник, если не подводит память, сын народного художника Армении, знаменитого скульптора-монументалиста Ара Арутюняна. Заходим в его мастерскую, где нашему взору открывается целый набор аниквариата: велосипед начала 20-х годов прошлого века, старинные чугунные утюги, какой-то граммофон, хранящий мелодии прошлых лет, букинистические издания, которые я обожал со студенчества. Ну и здесь продолжилось наше застолье в не менее привлекательной атмосфере. Паузы между тостами я старался восполнить своими стихами. В мастерской висели какие-то плакаты, видимо, хозяин работал и в жанре политического плаката. До сих пор помню (правда, смутно), что на одном из них был достаточно оригинальный текст: «Оскал гегемонизма».
Друзья попеременно рассказывали о чем-то интересном. Я впервые услышал из их уст о древнеармянских письменах, хранящихся в Матенадаране1, об «Ашхарацуйце»2, которым вплотную займутся позже наши замечательные историки Виталий Бутба и Гурам Гумба.
На второй день друзья повели меня в Государственный музей истории Армении. Показали историко-археологический заповедник Эребуни. Я пополнял свой багаж знаний о стране, с которой мою Апсны связывают глубокие корни, и в особенности, межгосударственные отношения эпохи Средневековья. Я внимал каждому слову моих друзей и одновременно созерцал величественную картину белоснежных вершин Арарата, овеянных легендой о Ноевом ковчеге. Нечто подобное можно услышать от наших абхазских златоустов об Ерцаху (Эльбрусе). А поэтам, как известно, свойственно преувеличивать силу ассоциативных созвучий мифов и сказаний.
Много чего я мог бы вспомнить и написать о своей единственной поездке в Армению. Но все некогда. Вот и приходится фиксировать обрывки этих воспоминаний фрагментами, штрихами и пунктирами. Главное во всей этой полуприключенской истории – праздник, который устроил мне милый Карлен. Я в Абхазии частенько рассказывал друзьям-армянам об этом прекрасном человеке, журналисте, публицисте, переводчике: его перу принадлежат переводы романов Юлиана Семёнова и Даура Начкебиа. Однажды, если не ошибаюсь, мой друг Артавазд Сарецян сообщил мне, что Карлен приехал ненадолго в Абхазию. Я был безмерно рад, быстро отыскал своего давнего приятеля, пообщался с ним в Сухуме и предложил ему съездить со мной в Лыхны, на свадьбу родственника, на что он любезно согласился. Все произошло как то спонтанно (сейчас почему-то вспомнил строки Пастернака «И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд»). На свадебном застолье под шатром я знакомил Карлена с уважаемыми людьми, рассказывал им взахлеб о странностях нашего случайного знакомства в Ереване, переросшего в дружбу. Как говорится, пути Господни неисповедимы. Увы, радость наших редких, но задушевных встреч и бесед сменилась печалью. Слишком рано оборвалась жизнь Карлена. И узнал я об этом от моего собрата по перу, талантливого писателя, журналиста Артавазда Сарецяна.
Моя любовь к Армении немыслима без трепетного восприятия таких выдающихся поэтов, как Аветик Исаакян, Паруйр Севак, Юрий Саакян, с которым меня познакомил Геннадий Аламиа. Артавазд Сарецян рассказал мне, что гениальный Паруйр Севак дружил с абхазским В. Маяковским – Алексеем Ласуриа. Рассказ Беника Сейраняна, который повествует об их близком творческом содружестве, был опубликован в газете «Республика Абхазия».
Во многом ассоциируется со стилем нашего блестящего прозаика, новатора Алексея Гогуа манера письма тонкого писателя-психолога Гранта Матевосяна. Хотелось бы еще глубже изучить творчество классика, «апостола армянской действительности» Егише Чаренца, с которым был лично знаком незабвенный Шалва Цвижба – автор выдающихся философских восьмистиший, узник совести, мужественно переживший 18 лет сталинского ГУЛАГА, посвятивший армянскому собрату по перу замечательные стихи.
Когда-то в советскую эпоху (кажется, в середине 80-х) в гостях у моего тестя вместе с друзьями находился известный критик и литературовед Левон Мкртчян, к серьезнейшим исследованиям которого я нередко обращался, когда работал над своей докторской диссертацией.
Нам надо чаще встречаться с мастерами армянского художественного слова, с издателями, журналистами, благо, неутомимый Артавазд Сарецян, прекрасный поэт и прозаик, постоянно занят популяризацией наших произведений: переводит их на армянский язык и публикует в лучших литературных изданиях Армении. А это весьма ценно и престижно для нашей отечественной словесности.
Также абхазские классики в разное время успешно переложили на родной язык произведения О. Туманяна, Г. Нарекаци, Е. Чаренца, Г. Эмина, А. Исаакяна, Г. Регистана, Ю. Саакяна и других.
Многие мои коллеги близко знакомы с Азатом Лачиняном, умным, интеллигентным и весьма коммуникабельным дипломатом. Скольким абхазам он помогал подлечиться в лучших клиниках Еревана! Сколько позитива приносит каждая минута спокойного общения с ним!
Недавно я знакомился с публикациями альманаха «Нестор», который выпускает Дом-музей Н.А. Лакоба под редакцией профессора Станислава Лакоба. Там я нашел уникальные воспоминания Сурена Газаряна (бывшего сотрудника госбезопасности, отсидевшего от звонка до звонка в сталинских лагерях с 1937 по 1947 г.). Они посвящены трагической судьбе его сокамерника по тбилисской тюрьме – Михаилу Чалмаз, абхазскому революционеру, государственному деятелю, осужденному по известному сфабрикованному делу «О контрреволюционной, диверсионно-вредительской, террористически-повстанческой, шпионской организации в Абхазии». На мой взгляд, тюремные диалоги Сурена Газаряна и Михаила Чалмаза, так убедительно воссозданные автором книги, представляют собой ценность не только в документально-фактографическом, но и в художественно-психологическом плане. Беседы двух великих людей, узников совести, сокамерников – их боль, переживания и их сострадания – яркий пример того, как надо нам всем беречь и ценить друг друга, нашу дружбу и взаимопонимание.
А сколько мудрости, силы духа, великой любви к Абхазии, безграничного взаимоуважения было во взаимоотношениях двух великих лидеров – Владислава Ардзинба и Альберта Топольяна! Было бы непростительной ошибкой пренебрегать идеологией, воссозданной этими эпохальными личностями...
В фильме об Армянском батальоне, в творческом осмыслении которого я участвовал вместе с журналистами Мананой Кокоскир и Давидом Авидзба, есть уникальные эпизоды общения с Владиславом Григорьевичем, который гордился подвигами бойцов подразделения им. маршала Баграмяна.
И все эти мысли и рассуждения навеяны моей давнишней поездкой в прекрасную Армению и гостеприимством дорогого Карлена Яланузяна и его замечательных друзей… Мы «все уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать» (Есенин), но остаются наши воспоминания, стоп-кадрами запечатлевшие знаковые события нашей жизни.
Думаю, самой подходящей художественной инкрустацией моих армянских этюдов, будет превосходное стихотворение Фазиля Искандера «Гегард»:
С грехом и горем пополам.
Врубаясь в горную породу,
Гегард, тяжелоплечий храм,
Что дал армянскому народу?
Какою верой пламенел
Тот, что задумал столь свирепо
Загнать под землю символ неба,
Чтоб символ неба уцелел?
Владыки Азии стократ
Мочились на твои надгробья,
Детей, кричащих, как ягнят,
Вздымали буковые копья.
В те дни, Армения, твой знак
Опорного многотерпенья
Был жив, Гегард, горел очаг
Духовного сопротивленья.
Светили сквозь века из мглы
И песнопенья и лампада.
Бомбоубежищем скалы
Удержанные от распада.
Страна моя, в лавинах лжи
Твои зарыты поколенья.
Где крепость тайная, скажи.
Духовного сопротивленья?
Художник, скованный гигант.
Оставь безумную эпоху.
Уйди в скалу, в себя, в Гегард.
Из-под земли ты ближе к Богу.
Владимир ЗАНТАРИА,
писатель, доктор филологических наук, академик
1 Матенадаран – хранилище древних рукописей.
2 «Ашхарацуйц» – памятник географии и картографии древней Армении. Автор – Анания Ширакаци (VII в.)