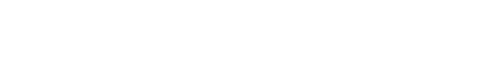С тревогой я смотрела в непредсказуемую темноту ночи. Одна. Совсем одна. Без жилья, без денег, считай, на улице. Куда идти? Что делать? Я не представляла себе. Я давно поняла, что это не кратковременный конфликт, а настоящая война, хотя даже самой себе боялась в этом признаться. Она началась в пятницу. В этот день мы должны были получить зарплату, и я, как всегда, собиралась на выходные домой в город Очамчыру. Не успела. И вот я с опаской настороженно прислушиваюсь к каждому шороху ночи, а перед глазами мелькают, как в калейдоскопе, сменяя друг друга, беспорядочные картины недавних событий. Только были они далеко не красочные. Притихший, как в ожидании грозы, город всем своим видом указывающий на таящуюся опасность. Затем он – словно проснувшийся вулкан. Повсюду хаос, крики, плач, беспорядочная стрельба, бегущие в страхе люди, бесцельно мчавшиеся с грузинскими флагами машины, из окон которых чёрные дула автоматов беспорядочно извергали пули всё равно куда и в кого. Дом с окнами, выходящими на Сухумскую набережную, где я снимала квартиру. Нависший прямо над нами, стоящими на балконе, вертолёт, так близко, что видны очки лётчика, издавал невероятный грохот. Весь дом дрожал, как во время землетрясения. В ужасе все выбегаем в узкий коридор, инстинктивно прижимаемся к стенам, не понимая, откуда мимо нас со свистом пролетают пули. Паника, душераздирающий крик, бьётся в истерике молодая женщина, а рядом с ней заливается слезами трёхлетний ребёнок. И неизвестно откуда силы возвращаются ко мне, хотя страха у меня и не было, какое-то оцепенение. Я прижимаю к себе девочку и как можно спокойнее говорю её матери: «Успокойся! Ребёнка напугала. Всё будет хорошо». Взгляд женщины постепенно становится осознанным. «Страшно ведь», ‒ ответила она, но попыталась взять себя в руки, приласкав дочку.
Следующая картина. В приоткрытую дверь комнаты заглядывает хозяйка квартиры, словно проверяя здесь я или нет. А куда я денусь? Уже через несколько минут она заносит мне чашку тёплого чая и небольшой ломтик хлеба. Другая рука её сжимает собранную дорожную сумку.
‒ Я уезжаю в Гудауту, ‒ говорит она, отводя глаза в сторону.
Комок подступает к горлу. Я понимаю, насколько всё плохо.
Хозяйка уходит. Я сижу, не двигаясь, смотрю в одну точку, ни одной мысли в голове, переполняет отчаяние. И тут, по-видимому, увидев меня в полуоткрытую дверь, в комнату вбегает отец моего друга.
‒ Лейла, а ты здесь как? ‒ взволнованно и удивлённо говорит он. ‒ Быстро собирайся, едем в Гудауту. Тебе все обрадуются. Здесь нельзя оставаться, нельзя. Быстро. Времени мало.
Я отрицательно покачала головой. Он уговаривал, но я отказалась. Сколько раз я потом пожалела об этом! Один Бог знает. Как я тогда не понимала ‒ главное выбраться в более безопасное место, а потом уже можно дать о себе знать родным, но... случилось как случилось.
Вечером ко мне зашла соседка Лика и позвала к себе. «Будем спать в одной комнате, ‒ проговорила она. ‒ Сейчас надо держаться вместе. Мама так сказала». Ее мама, тётя Изольда, ‒ тамышская абхазка, всё время переживала и плакала, приговаривая, как там мои. Она опасалась за своих родных. Лика ‒ по отцу грузинка. Она и была похожа на грузинку ‒ темноглазая, смуглая, с черными длинными волосами, которые она обычно собирала в пучок. Красивая, боевая, с непростым характером, она, несмотря на возражения матери, буквально под пулями побежала за несколько кварталов от дома к кому-то за сахаром. Запасы подходили к концу, и в тот день тётя Изольда, вздыхая, перебирала вместе с нами остатки овсянки. Её геркулесовую кашу я запомнила на всю жизнь, вкуснее как будто ничего не ела. Именно благодаря тёте Изольде я выжила в первые дни войны. Вспоминать то время и сегодня непросто. С каким удовольствием мы ели эту кашу, собравшись все вместе за столом!
«Лейла, за тобой идут...»
...И вот Лика давно сладко посапывала рядом, а я уже встречала рассвет. Так и не уснула.
Утро прошло более или менее спокойно. Я в своей комнате занималась с маленькими внуками тёти Изольды, которых привезли из Гагры на лето в Сухум, где их застала война. Однако тревожное чувство не оставляло меня. Не помню, от кого я узнала, что в дом поднимаются «гвардейцы». Предупредили, чтобы я не выходила, сидела в углу комнаты вместе с детьми, может, сойду за подростка. Позже мне рассказали, что на наш дом уже навели дуло танка, собираясь снести его, но откуда-то с криком: «Не стреляйте! Там дети», выбежал Борис Чолариа (тогда директор типографии), встал перед танком. Кто мог подумать, что это абхаз? Его стали заверять, что в доме снайпер, но Борис Шаликович убеждал в обратном. И они поднялись в дом. Один из них ‒ грузный, бородатый, по пояс голый, с большим крестом на груди и автоматом наперевес с шумом распахнул дверь в мою комнату, но план соседей сработал. Увидев нас, сидевших прямо на полу в углу комнаты, он пробормотал: «А, здесь дети!», и закрыл дверь.
Я слышала, в коридоре что-то происходило, раздавались возгласы, требовательные окрики, но слов было не разобрать. Оказывается, в опасности оказалась тётя Изольда. В ней распознали абхазку, хотя она хорошо говорила на грузинском языке, требовали показать паспорт. Перепуганная Лика, приговаривая, что это её мама, быстро вытащила свой паспорт, чтобы показать, что она грузинка. Так спасла мать. Наступило затишье. Едва я перевела дух, как в комнату вновь забежала Лика ‒ бледная, с дрожащими губами: «Лейла, за тобой идут. К ним у лестницы подошёл сосед, сказал, что наверху живёт девочка-абхазка, которая говорит, что все грузины шовинисты. Вот они и повернули назад».
Лика ушла. Я не знала, что делать, решила, скажу что-нибудь такое, чтобы сразу застрелили. Наивная. Время шло, секунды казались вечностью. Тишина. Ничего не происходило. То ли сам Господь, то ли ангел-хранитель отвёл от меня беду, спас жизнь. Оказывается, когда гвардейцы стали подниматься по лестнице, во двор забежал военный и стал отчаянно кричать на грузинском: «Где вас носит? Командир в ярости. Снайпера обнаружили. Быстро за мной», и они, выругавшись, со словами: «Мы ещё сюда вернёмся», ушли. Об этом мне сообщила Лика, которая всё это видела и слышала. Она же рассказала своему парню, насколько я помню, его звали Хвича, о подлости соседа. Он пригрозил доносчику: «Если с этой девочкой-абхазкой что-то случится, хоть один волос с головы упадет, ты сам себе яму выроешь и живьём тебя в ней закопаю». И результат не заставил себя ждать. Когда я спустилась к крану за водой, сосед вдруг заискивающе мне сказал: «Чем больше я тебя узнаю, тем больше ты мне нравишься».
Я очень долго думала, почему он так поступил? Почему он обозлился на меня? Мы никогда не общались, просто здоровались, он даже не знал, что я журналист, и я не говорила этих слов, из-за которых он натравил на меня врагов. И вот однажды поняла. Перед войной Анатолий Алтейба подарил мне кассету с абхазскими песнями. Когда я слушала их иногда после работы, моя дальновидная хозяйка не раз говорила мне: «Убавь звук, здесь грузины живут».
«Так тихо ведь слушаю, ‒ искренне удивлялась я. ‒ А грузинское радио на весь двор гремит. Им можно, а нам нельзя?» Вот и аукнулись мне абхазские песни. По-видимому, их даже негромкое звучание так раздражало, нет, бесило соседа, что этого оказалось достаточно для того, чтобы он решил стереть меня с лица земли. Печально, но факт.
Путь домой
Ночью мне приснился сон, что я еду домой на белой машине. Проснувшись, я с тоской вспоминала об этом, и хотя сны мои довольно часто сбываются, в его реальность я не верила. Напрасно. Действительно, в тот же день белая машина везла меня домой. Родные опасались, что я не поеду с незнакомыми людьми, но внутренняя уверенность, что это единственный шанс попасть домой, не подвела меня, да и выбора не было. Почему-то я даже не думала о том, что прорваться через грузинские кордоны будет непросто. Удостоверение корреспондента газеты «Республика Абхазия» я спрятала подальше, ибо понимала, что показывать его нельзя, впрочем, как и паспорт, которого при мне не было. На заднем сиденье машины пристроились две женщины в глубоком трауре с фотографиями ребёнка на груди, я оказалась между ними. Позже поняла, что это была идея того, кто приехал за мной (он не одобрял эту войну, так как имел абхазские корни, знал абхазский язык), взять с собой родных, чтобы моё присутствие в машине не бросалось в глаза. Накануне войны семья потеряла тяжелобольного маленького ребёнка, и отец, который не мог смириться с утратой, часто ездил на кладбище. У него документы проверили, а к нам лишь мельком заглянули в окно, увидели женщин в чёрном и отошли, разрешив проезд. Всю дорогу мы молчали, и только, когда въехали в город, мужчина усмехнулся: «Надо же, партизаны как будто знают, что абхазку везу, ни одного выстрела. Ни разу так свободно не проезжал, по часу и больше лежал на земле у обочины дороги, от обстрелов прятался».
Город меня встретил как чужой, – хмуро и насторожено. Позже эти впечатления вылились в одно из моих стихотворений военного цикла:
Осень – как протяжный
горький крик,
бьющейся в неволе
гордой птицы.
Осень – смерти
призрачный двойник.
Голод. Страх.
Растерянные лица.
Осень цвета хаки.
Сапоги. Сапоги.
И лязг чужих затворов.
Время зла, насилия, раздоров.
Небо, как клочок
сырой бумаги
Тлеет, как его ни берегли.
Осень цвета хаки.
Сапоги.
Дома меня обняли заплаканная мама и молчаливый, мрачный, как туча, отец, уже и не чаявшие увидеть меня в живых. Тогда мы ещё не знали, что вся война впереди. Только после неудачной попытки группы Бориса Пачулиа («Деда») освободить город, пришло осознание того, что этот ад надолго. С провалом абхазской операции погасли и наши мечты о скором мире. Я помню, как переживал отец, всю ночь он сидел у окна и курил сигарету за сигаретой. А накануне днём с автоматами наперевес по городу рыскали оккупанты, выискивая абхазов.
Не забыть, как...
Невозможно рассказать всё, что пришлось пережить в оккупированном городе, но этого никогда не забыть. Не забыть, как из Ткуарчала пришёл мой дядя, зять моего отца, который рассказал, как тяжело в городе, что они давно голодают и уже несколько дней как питаются только зеленью и фруктами. Мы вместе с другими родственниками собрали для него что смогли, но много ли унесешь в руках? Тем не менее дядя после войны рассказывал, что это позволило им продержаться до того, как прибыла гуманитарная помощь. Не забыть, как пришла попросить несколько картошек соседка – некогда цветущая полноватая молодая женщина, вдруг превратившаяся в изможденную старушку. У нас в тот год был хороший урожай, и мама, поняв всё без слов, щедро им поделилась.
Не забыть, как приходилось прятаться, где придётся в дни, когда искали абхазов. 54 человека, включая трехлетних детей, были зверски убиты во время войны в г. Очамчыре: расстреляны, замучены, сожжены.
Особенно мне запомнилась одна ночь, когда к нам постучался юноша и взволнованно предупредил, чтобы мы уходили из дома, слышал разговор отца с вояками, что будут на машине разъезжать, собирать абхазов и расстреливать на стадионе. Мы – мама, папа и я – никуда не пошли, спрятались в глубине двора под деревом, постелив покрывало на траве. Там и сидели до рассвета, съежившись от холода, в ожидании ужасного, неотвратимого, но и со слабой искоркой надежды на спасение. И тогда к нам подползла, виляя хвостом, невесть откуда взявшаяся незнакомая собака, пристроилась рядом. За забором слышались пьяные весёлые голоса, хохот, а мы не смели войти в свой дом и прятались. Мама тихо молилась: «Господи Иисусе, помоги, сохрани нас, грешных, спаси и помилуй, сохрани наш народ и Владислава, отведи беду!» Может, эта молитва и спасла нас, к нам не пришли. Эта молитва и привела в наш скромный дом (перед войной мы собирались строиться, отец разобрал второй этаж, и на фоне богатых соседских дворцов наш выглядел бедно) после освобождения города, вечером, группу абхазских воинов. «Мы знали, что здесь безопасно, не будет сюрпризов, ‒ сказал командир, обращаясь к маме, когда все собрались за накрытым столом. ‒ Перед наступлением мы сидели рядом с домом и слышали, как вы молились за нас».
Накануне перед наступлением на Очамчыру грузины и мегрелы массово покидали город. «Абхазов не боимся, ‒ говорили они, ‒ чечены придут, плохо будет». И мы видели в окно, как толпы людей в панике устремились в сторону границы с Грузией. К нам прибежала соседка-мегрелка. «Скоро абхазы придут, пенсию дадут?» – с надеждой спросила она. Она уже много лет была не в себе, потеряв родных в страшной аварии. Пришла к нам и осталась, не выгонишь ведь. Так что первое, что услышали наши воины, вошедшие в дом, было удивлённое на мегрельском: «Мире бо эна?» («Кто это такие?»). Я тут же сказала, что она ненормальная, не трогайте, мол, её. Один из парней с настороженным взглядом, совсем мальчишка, крепко сжимая автомат в руках, усмехнулся: «Да нужна она нам!»
Так к нам пришла Победа. Мы обнимали ребят, благодарили их и поздравляли друг друга, было всеобщее ликование воинов и тех, кто ждал освобождения. Мы знали, скоро над границей с Грузией будет развеваться абхазский флаг.
Память
Пишу, и слезы наворачиваются на глаза, и ком в горле, а в памяти слова моего стихотворения, выстраданного в то тяжёлое время:
Если я сегодня
останусь жива,
Придётся ли мне жалеть
об этом потом?
Ведь я не знаю,
какими станут слова,
Какими станут
моя земля и мой дом.
Кто из друзей,
из любимых родных людей
Вместе со мной в эту
новую жизнь войдёт,
Выстоит, выдержит ад
огневых цепей,
Или могила
горькой травой прорастет.
Если сегодня
я останусь жива,
Придётся ли мне жалеть
об этом потом?
Не знаю. Но знаю, что я
не продам слова
И не предам мою землю
и отчий дом.
...Последнее время всё чаще звучат разговоры о том, что надо строить мирные отношения с Грузией. Да, надо. Опасно иметь рядом недружественного соседа. Однако, прежде всего, Грузия должна повиниться за эту войну, за всё содеянное и подписать мирный договор. Тогда еще можно и подумать, иначе никак, не позволит память. И об этом тоже написанное мной в оккупации стихотворение, которое так и называется – «Память».
Это память торопит меня
В край камелии цвета огня,
В край безумия
красной листвы,
Неба красного,
красной травы.
Это память торопит меня.
Чей-то голос обгонит звеня
И растает
в туманных волнах ‒
На тревожных
родных берегах.
Это память торопит меня.
Миражи?
Сумасшедшие дня?
Или дар милосердных
богов? ‒
Вновь из вечности
звёздных миров
Вырастает вдруг эхо шагов.
Лица. Лица. Шаги. Голоса
Возвращают земле небеса.
И тревожат,
влекут за собой.
Это память
стекает слезой.
Наверное, самые неизвестные страницы войны ‒ это те, что пришлось пережить каждому из нас. У каждого была своя война, и есть своя память, «память, которая стекает слезой».
Лейла ПАЧУЛИЯ