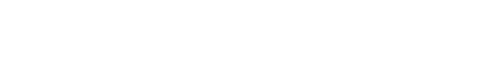А с другой стороны, может быть, мне просто казалось, что он «настолько большой и высокий», хотя на самом деле за какую-то долю секунды пролетал перед моим носом. Пролетал, как пролетала синица, плавными взмахами крыльев колыхнув мои каштановые кудряшки, «облизанные нашим телёнком». Ведь писал же Геннадий Аламиа, что в детстве «день был меньше клюва синицы…» И как не поверишь известному поэту, если его стихи печатаются даже в московских журналах! А может быть дни в детстве бывают разными?
В конце концов я успокоил себя тем, что наверняка о какой-то сказочной синице писал Геннадий Аламиа, клюв которой был настолько огромно-преогромным, что мой большой и высокий день (круглый, как футбольный мяч дяди Руфета), набитый разнообразными – весёлыми и грустными, но однозначно: счастливыми (я это понимаю сегодня) событиями, запросто умещался в нём?!
Но каким бы ни был мой день в детстве, – очень большим и высоким, или меньше клюва синицы, – он не стоял. Он шёл, вернее, катился как футбольный мяч дяди Руфета, иногда спотыкаясь о камни, иногда попадая в канаву, иной раз залетая в соседский огород... И совсем не важно, как он катился – медленно или же совсем медленно, почти незаметно. Ведь всё равно, рано или поздно, он обязательно докатился бы до той последней точки, после которой начинался ещё один день, чтобы ещё раз повториться с точностью до спотыкания о камни, попадания в канаву...
Вот так, день за днём, текло моё детство – большое и высокое, хоть и было «меньше клюва синицы». И оно тоже, как день, обязательно дошло бы до своей последней точки… До последней, или же, наоборот, до первой точки, но уже совсем другой жизни – взрослой?
И вот однажды как раз против этой самой «совсем другой» – взрослой жизни вдруг взбунтовалась, вернее, не на шутку восстала моя душа.
Я решил остановить … время. Каким-то чудесным образом лёгким движением ноги нажать на какие-то волшебные тормоза и остановить время. Остановить так же ловко и резко, как останавливали свои машины дяди Эдмон, Левон и Руфет прямо перед «ямой» на обрыве, оставляя на дороге параллельные тормозные пути вдоль заросшей травой канавы и поднимая к небу густые клубы пыли. Или, на худой конец, остановить так, как машинист останавливал в депо грузовой состав, на котором работал дядя Ваган – папин двоюродный брат: электровоз начинал тормозить, лязгнув сцеплениями, и гружённые до предела вагоны как будто по очереди тяжело ударялись друг о друга и упираясь друг в друга, медленно-медленно останавливались… Эхо ударов доходило до наших домов и замирало на оконных стёклах, которые дребезжали в рамах, как жужжали за домом большие мохнатые шмели в винограднике. Одновременно с вагонами успокаивались и стёкла.
Я на полном серьёзе хотел остановить время, но уже, к своему огорчению, начинал подозревать, что не такое уж и простое это дело. И даже, надо быть реалистом, совершенно безнадёжное.
Я мучительно сознавал всю несбыточность своего желания, вернее, мечты.
И, в конце концов, я решился на отчаянный шаг: если невозможно остановить движение времени, то надо любыми мыслимыми и немыслимыми способами добиться бесконечного продолжения детства, чтобы оно, как «ах-лето» в песне Пугачёвой, «никогда не кончалось» – продолжалось и продолжалось, опять и снова продолжалось. Я мечтал постоянно находиться в этом бесконечном продолжении детства. В этом моём наивном желании не было ничего эгоистического. Как говорится, ничего личного – не для себя я так отчаянно старался.
Оно, бесконечное продолжение детства, как воздух и вода, было необходимо мне по нескольким, как мне казалось, очень жизненно важным причинам.
Одной из главных причин было то, что я уже безнадёжно потерял всякий стимул взрослеть. Судите сами: дедовское охотничье ружьё, которое я должен был получить с вступлением в совершеннолетие, как это обещал мой дед Епрем, уже находилось у моего дяди, и как вы понимаете и помните по первой части нашей повести, у меня не было никакой возможности вернуть его обратно. Я даже словом не мог обмолвиться о том, что это ружьё – моё, только моё, оно принадлежит только мне. Я понимал, что никто мне не поверит, а мои притязания будут восприняты как эгоистические капризы самодовольного и избалованного любимчика деда.
Но сердце-то разрывалось. Моё сердце кровоточило и обливалось кровью. И я ничего не мог поделать с этим изводящим меня чувством.
Другая причина, возможно наиглавнейшая и бесконечно болезненная, заключалась в том, что с некоторых пор, точнее, после смерти нашей соседки – матери моей ровесницы Эммы Раганян, меня интересовали «очень серьёзные» вопросы: умирают ли родители, и если да, то каким образом можно избежать, вернее, предотвратить эту трагедию? Я никак не мог представить наш дом, наш двор и огород, нашу улицу, да и весь мир, не говоря уже о своей жизни, без моих родителей.
На мои настоятельные вопросы мама отвечала: «Родители привыкают жить, но они умирают, когда дети не слушаются их».
Мамин ответ на некоторое время успокоил меня, потому что я был очень послушным ребёнком, и наверняка мои родители из-за моего хорошего поведения уже успели «привыкнуть жить».
Затем в мою душу вновь закралось сомнение: очень послушными были и дети тёти Вардишах, но тем не менее дядя Варо умер. Неужели он за всю свою жизнь так и не привык жить?!
На этот вопрос моя мама ответила, что дядя Варо – самое настоящее исключение из правил. А самые строгие правила обязательно имеют свои исключения, которые как раз и подтверждают эти правила. И это закон природы! Сам посуди: ведь дядя Варо не просто так взял да и умер, потому что так захотел. Он умер не своей смертью, он умер от побоев и, возможно, угрызений совести. А так он жил бы и жил!..
Скажу откровенно: мамин ответ ещё больше запутал и озадачил меня. И я за разъяснениями вынужденно обратился к Стёпе.
Он был на пару лет старше, и в жизни, по моему глубокому убеждению, разбирался гораздо лучше меня. Стёпа во всём опережал нас, во всём он был самым первым. Например, когда в нашем городе появились первые «рогатые», троллейбусы то есть, в количестве пяти штук с соответствующими порядковыми номерами, самым первым Стёпа «распечатывал» их – раньше всех остальных пацанов успевал «маршрутировать» на них. Что и говорить, мы аккуратно записывали в специальную тетрадь номера «распечатанных» нами «рогатых», напротив номеров указывая день и час «маршрутирования», и аккуратно подбивали итоги дня. И когда взахлёб рассказывали ему о своих достижениях, он с безразличным видом нехотя отвечал: «Это что! Вот я на «тройке» уже пять раз «маршрутировал», а на «пятёрке» семь полных кругов сделал!» Сногсшибательный показатель! Мы были уверены, что Стёпа обязательно стал бы олимпийским чемпионом, будь такой вид спорта, как «маршрутирование на троллейбусе»! Конечно, мы с завистью смотрели на него.
Однажды на спинке заднего сиденья троллейбуса я увидел знакомое имя – «Стёпа», и до сих пор не знаю: то ли сам Стёпа зафиксировал «распечатку» «рогатого» (в чём очень сомневаюсь), то ли кто- то из наших таким своеобразным способом решил подшутить над Стёпой (хотя это тоже маловероятно – Стёпа был непререкаемым авторитетом и никто не решился бы на такую подлянку). А может быть, постарался совсем другой Стёпа?
Я опять сильно отвлёкся от нашего повествования, давайте вернёмся к нему.
У Стёпы, наверное, был готовый ответ, потому что он сразу же уверенно ответил, что родители умирают, когда взрослеют дети.
«Но они же привыкают жить, – сказал я Стёпе, – а от привычки очень невозможно отказаться, как от курения».
«А вот и совсем нет, – возразил Стёпа, – если я очень захочу, то за одну секунду брошу курить, хотя к курению привык уже сколько лет!»
Его ответ не на шутку встревожил меня. Ситуация усугублялась ещё и тем, что в результате многоходовых логических комбинаций я пришёл к неутешительному для себя умозаключению: я буду взрослым, когда кончится моё детство. А это в свою очередь означает, что…
Нет, нет, я ни за что не хотел верить в эту чудовищно неизбежную несправедливость. Надо было срочно что- то делать.
И я ничего лучшего не смог придумать, кроме как всеми своими силами хотя бы пока задержаться в детстве, упираясь в него ногами, а потом попытаться навсегда остаться там. Я жаждал мёртвой хваткой зацепиться за него, зацепиться руками и зубами и не отпускать, ни за что не отпускать, из последних сил держаться… Не отпускать и всё!
Мой мозг лихорадочно работал, я обязательно должен был найти решение этой, для меня самой главной в жизни проблемы.
Вот так мои мучительные поиски привели меня к идее бесконечного продолжения детства.
Я хочу сказать читателю, что я в какой-то степени исполнил своё желание (правда, с некоторыми оговорками).
Конечно, читатель понимает, что я никак не мог остаться в бесконечно продолжающемся детстве из-за обидно банальной невозможности осуществления своей мечты.
И это, по моему глубокому убеждению, было не совсем правильно, не совсем справедливо.
Но зато оно, моё бесконечно продолжающееся детство, как компенсация этой неправильности и несправедливости, навсегда осталось в моей душе, в моём сердце.
Артавазд САРЕЦЯН