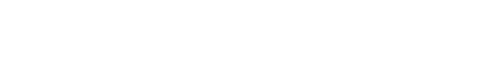Стоит ли говорить, что встреча с ними в пустом здании мне ничего хорошего не сулила. Я спустился на первый этаж и через зал заседаний общины и церковь вышел на задний двор школы и пошёл к её воротам, которые с самого начала войны не закрывались. Да и не было никакого смысла их закрывать, потому что во двор школы часто заезжал танк, чтобы, укрывшись за школьным зданием, выпустить несколько снарядов по абхазским позициям, которые находились на правом берегу реки Гумиста. Абхазские артиллеристы давно охотились за этим танком и, в конце концов, сумели прямой наводкой подбить его, чуть ниже дома нашего завхоза. Погиб весь экипаж, в составе которого был и один из преподавателей местного субтропического института. Он невредимым вышел из подбитого танка, но «успел поймать» осколок снаряда, который угодил ему прямо в горло.
Так вот, перед настежь открытыми воротами, вдоль дороги в сторону вокзала стоял армейский «Урал», кузов которого был набит мебелью. «Опять кого-то ограбили, – мелькнуло в голове, – надеюсь, что на сей раз всё обошлось без жертв». А так я подумал, потому что несколько дней назад во дворе своего дома за оказание сопротивления мародёрам была убита Сильва Кюлян – медсестра Республиканской больницы. А ещё несколькими днями ранее, 12 декабря, за то же самое до полусмерти был избит дядя Григор – муж моей родной тёти Аник, дом которого после ограбления мародёры подожгли. Какую богатую библиотеку имел дядя Григор, какие замечательные книги были собраны в ней, как величественно стояли они плечом к плечу друг к другу, тесно сомкнутыми рядами! Всю жизнь дядя Григор собирал эти книги! Кто-то покупал мебель, а он – книги! Страшно представить, как же горели эти книги в охватившем дом пламени.
Я повернул направо и пошёл вниз, к вокзалу.
Светило бледное солнце, готовое вот-вот скрыться за густыми серыми тучами, затягивающими весь небосклон. Мне даже подумалось, что солнце побледнело от охватившего его ужаса из-за неописуемых злодеяний и наверняка считало себя виноватым за все эти преступления и бесчинства, которые творились под его лучами. Мне вдруг захотелось встать на колени и как язычник обратиться к Солнцу: «Не вини себя, о Солнце! Ты – очень доброе, ты – очень чистое и очень светлое! Никакой твоей вины нет в том, что кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то обманывает, ворует... Верно, всё это происходит днём, когда ты светишь. Но верно и то, что всё это происходит и ночью, и даже больше происходит ночью, чем днём, под покровом темноты, когда ты наверняка … не спишь, потому что невозможно спать после всего увиденного. Ты не вини себя, Солнце. Это нам, людям, должно быть стыдно за то, что вот так оскорбляем тебя своим недостойным поведением».
Не успел я дойти до могилы футболиста Алания, которого убил имеющий за плечами несколько «ходок» Карен Гаспарян за оскорбление отца – водителя троллейбуса, как вдруг услышал хлопки закрывающихся дверей автомашины. Потом через несколько попыток грозно взревел мотор, и коробка передач, нехотя повинуясь воле водителя, с царапающим слух скрежетом переключилась на первую скорость. Машина тронулась с места и покатилась вниз, вслед за мной. Буквально через несколько секунд «Урал» обгонит меня, а я пройду ещё метров двести и поверну направо, к пожарной охране. Затем выйду к знаменитой пекарне «Колос», открытой отцом Альберта Гагуа, с которым некоторое время я работал на винзаводе обработчиком вин, а проще говоря – фильтровальщиком. Кстати, очень интересная работа! Не помню кто, но наверняка очень тонкий ценитель винных напитков, справедливо сказал: «Вино – живой организм: как человек рождается, живёт и умирает». А великий пролетарский писатель Максим Горький восхищался работой виноделов. Как сейчас помню: плакат с его восторженными словами украшал фасад головного завода Абхазвинкомбината: «Да здравствуют виноделы, которые делают вино и через него вносят солнечную силу в души людей!» «Нынче мало, очень мало солнечной силы в душах людей, – подумал я. – Нет, не оттого, что мало пьют, наоборот – пьют как раз очень много. Да вот беда: собирают несозревшие, не впитавшие солнечную силу гроздья винограда, давят и давят их с добавлением воды и сахара. И выжимают последние соки. О таком вине говорят, что оно «сделанное». Пьёшь на вкус очень приятное это вино, а потом выворачивает всю твою душу. Вот и видишь вокруг себя умело «сделанные» лица и улыбки, сделанные» беседы… сладенькие аж до тошноты... Но, к счастью, есть и уважающие себя виноделы, не унижающие достоинства винограда и вина. Вся надежда на них, на настоящих…»
Я не смотрел на платаны, обступившие дорогу с двух сторон. Просто шёл, потупив взор. Почему-то в голову пришли евтушенковские слова:
Горе смотрит, горестно потупясь,
Потому и видит глубоко.
«Где же ты сейчас, Женя? Как бы ты поступил на моём месте», – я мысленно обратился к своему мудрому другу.
Вот так, в сопровождении его строк, я пройду ещё метров сто вниз, и там слева в переулке дом нашего зятя Шаварша, который в ожидании окончания войны с семьёй находился в селе Дурипше – в дедовском доме своего друга- абхаза.
В семейном очаге нашего зятя оставались его родители – мать Аня и отец Ефрем. Я обязательно зайду к ним и останусь там до наступления темноты.
Потом, незаметно, стараясь не попадаться на глаза посторонним, под покровом ночи доберусь до нашего дома.
Насколько было возможно, я ушёл от дороги в сторону, на обочину, и продолжил путь, почти прижимаясь к кладбищенским оградам.
Машина, набравшая скорость и почти догнавшая меня, вдруг замедлила ход… Она не обгоняла меня: водитель периодически, со скрежетом переключаясь на холостой ход, нажимал на педаль газа так, что мотор ревел на всю округу.
Краем глаза я заметил надгробный камень с портретом дяди Геворга, установленный им же самим с указанием дня, месяца и года рождения. Конечно, на мраморной плите отсутствовала дата его смерти. «Будет и дата, – по этому поводу шутили сельские философы, – ведь это всего лишь вопрос времени». Говорят, дядя Геворг своими же руками смастерил и свой добротный гроб, который находился у него на чердаке.
Я мысленно обратился к нему: «Дай Бог вам здоровья, дядя Геворг, живите ещё сто лет, как говорится, без капитального ремонта, пусть ещё сто лет на мраморной плите не появляется вторая дата, пусть ещё сто лет на чердаке пылится гроб!»
И вдруг, прервав мои размышления, неожиданная, такая простая и страшно реальная мысль острым шипом вонзилась в мой мозг, пройдя его насквозь, да так, что я даже почувствовал пронизывающую боль: «Вот так они будут медленно изводить мою душу, шаг за шагом доведут меня до сумасшествия и, в конце концов, просто задавят, вот здесь, на этой улице».
От этой перспективы быть просто раздавленным на дороге я аж вспотел, как парниковое стекло потеет от разницы внутренней и наружной температур зимой…
Машина медленно катилась за мной, не отставая и не обгоняя… Конечно, можно резко повернуть направо и попытаться скрыться. Но я тут же напрочь отмёл эту мысль: не успею, уж очень густо стоят ограды, почти впритык друг к другу.
Я не успею протиснуться между ними, как получу автоматную очередь.
Мне казалось, что я постепенно схожу с ума, находясь в здравом уме.
Нет, всё же надо думать о чём-то другом, о чем-то отвлекающем от дурных мыслей. Ну, например, хотя бы о том, что недалеко отсюда по левую сторону от меня, почти на спуске, под вековыми кедровыми деревьями, обильно истекающими ароматной смолой, которую местные жители собирают и употребляют как жвачку для очищения дёсен и зубов,– похоронены мой дядя Каро и тётя Зварт – младшая сестра моей мамы.
Тётино имя переводится как «весёлая», хотя жизнь она прожила не совсем весёлую, а если быть более точным – совсем невесёлую.
Неожиданно умерла моя тётя, очень рано, пережив своего мужа Каро на пять лет, оставив сиротами дочерей Гаянэ и Аиду.
Я очень любил их: и тётю, и дядю. «Пусть Бог даёт мало, – говорил дядя Каро и добавлял: – но даёт всегда». Бог по-своему понял слова дяди Каро. В отношении самого дяди, да и тёти тоже, первую часть поговорки он выполнил с ювелирной точностью: действительно, мало хорошего досталось этой замечательной семье, очень мало. Вторую часть тоже Бог выполнил, постоянно «снабжая её несчастьями».
Потом я мысленно перенёсся на могилу нашей крёстной дочери Альвины – чуть ниже захоронения моих родственников, на северном склоне горы. Туда ведёт узкая тропинка, там сыро до озноба, потому что солнечные лучи проскальзывают мимо – вниз, в ущелье, на крутых склонах которого кто-то посадил мандариновые деревья.
Я настолько глубоко был погружён в свои не совсем светлые воспоминания, что напрочь забыл о с грохотом следовавшей за мной машине, кузов которой был набит всякой всячиной. Вдруг в моё сердце вкралось сомнение: а может быть, машина едет медленно, чтобы как-то не повредить эту всякую всячину, аккуратно сложенную в кузове и сто́ящую для их новых хозяев дороже любой человеческой жизни? А может быть, все мои сомнения и тревоги действительно напрасны?
А может ли в жизни быть всё так просто и банально? «Конечно, может быть», – откуда-то из своих неведомых далей обнадёживающе подсказало подсознание. И эта подсказка немного успокоила меня.
Так вот, семь лет было Альвине, когда она умерла в одной из ереванских больниц в чудовищных муках, от белокровия. О её страшной болезни мы узнали, когда для поступления в первый класс она проходила медобследование в Сухумской детской больнице.
Здесь же первыми тревогу забили врачи и настоятельно посоветовали, нет, потребовали срочно вывезти ребёнка в Ереван для обследования в специальной клинике, что и было сделано немедленно.
Но… К сожалению, всего на несколько месяцев удалось продлить ей жизнь. За несколько дней до смерти Альвины к нам пришёл её отец, Спартак, и сказал: «Альвину надо крестить. Крёстные отказались. Я их понимаю: это тяжело – крестить больного ребёнка и знать, что скоро его не будет. Но крестить надо обязательно, и мы хотим, чтобы это сделали вы».
Вот так мы – моя жена Гоар и я – стали крёстными родителями Альвины.
До поворота к пожарной охране остаётся совсем немного, всего несколько десятков метров. Как раз успею вспомнить ещё историю о том, как дядя Рушан и ещё несколько человек пришли копать могилу для умершей нашей соседки, а я остался во дворе покойной, чтобы смастерить крест и написать на нём её самые главные биографические данные, что через чёрточку.
Как и положено, дядя Рушан и его товарищи вместе с необходимыми инструментами взяли с собой обязательные для таких случаев пару бутылок мандаринового самогона с нехитрой закуской и под лёгким моросящим дождём поднялись на кладбище. Закуску разложили под раскрытым зонтом, а сами начали копать. Конечно, иногда подходили к зонту, прикладывались к гранёному стаканчику и продолжали копать дальше. Шутили и рассказывали всякую всячину. Здесь без таких шуток нельзя, даже невозможно. Вдруг послышался свист летящих снарядов, после чего последовали взрывы где-то совсем рядом. Друзья спрятались в наполовину вырытом четырёхугольнике. Как раз в этот момент, откуда ни возьмись, появилась бродячая собачка и, не обращая никакого внимания на свистящие осколки, прямиком пошла к зонту, а вернее, к накрытой под ним «поляне».
Дядя Ншан первым заметил целенаправленно приближающуюся к закуске угрозу в виде собачки и, на секунду позабыв об осторожности, слегка приподнялся и крикнул протяжно- жалобно: «Тиди-и-и!»...
Тиди... Это – уникальное слово-обращение на армянском языке исключительно к собаке, заменяющее все собачьи «слова» на свете. Его значение зависит от интонации произношения. На сей раз оно означало глубочайшую просьбу: «Пожалуйста, не надо, ну будь же ты человеком». Это почти так, как герой искандеровского «Созвездия Козлотура» восклицаниями «Хейт! Хейт!» подчинял своей воле стадо коз.
Не успел дядя Рушан закрыть рот, не успела собачка повернуть свою лопоухую головку в сторону дяди Рушана, как где-то рядом, с острым свистом взорвался новый снаряд. Один из очень маленьких осколков со змеиным шипением протаранив небритые впалые щёки дяди Рушана, пролетел между его раскрытыми челюстями. Дядя Рушан не сразу понял, что произошло. Потом, надо дать ему должное, он очень спокойно, без лишней паники, как и подобает настоящему мужчине, не «выписав» пинка жадно глотающей закуску виновнице своего несчастья и даже не обматерив её, как принято в таких случаях, сам себе оказал первую медицинскую помощь в виде «принятия на грудь» полного стакана самогона, прополоскал рот и горло, проглотил содержимое, и в сопровождении постепенно приходящих в себя друзей вышел на разбитую кладбищенскую дорогу, где его подобрал военный УАЗик, следовавший вниз – в сторону Республиканской больницы.
К сожалению, я должен прервать свой рассказ, потому что впереди показался поворот направо, к пожарной команде. Кладбище уже закончилось, и появились первые осунувшиеся, как люди от горя, дома: такими жалкими и бессмысленными показались они без детского крика и смеха. Да и людей тоже не было видно, хотя я совершенно точно знал, что за нами внимательно следили очень грустные глаза тёти Жамкочян и дяди Даниэла, и другие глаза, не менее любопытные и такие же грустные.
Ещё несколько метров, и ещё… Всё ближе и ближе то ли точка моей жизни, то ли её многоточия под названием «поворот»… Поворот... Но поворот куда? Это именно тот поворот, смысл которого не зависит от поворачивающегося.
Машина медленно катилась за мной… Ещё пару метров… Вот ещё сделаю пару шагов… Через несколько секунд решится мой вопрос, а точнее, судьба, и, наконец, закончится эта суровая игра с самим собой, похожая на детскую под названием... Интересно, кто её так нежно назвал «кошки-мышки», чтобы кто-то потом смог уточнить: «кошкина игра – мышкина смерть». Обильный холодный пот лился с меня градом, застилая глаза…
Будь что будет. Из последних сил я взял и просто-напросто повернул себя направо и механически сделал ещё несколько шагов…
«Урал» прощально посигналил. Взревев мотором, медленно покатился вниз и скрылся за углом – через пару минут он будет на железнодорожном вокзале. Я тоже в знак прощания попытался поднять онемевшую руку и постарался помахать вдогонку.
«Расстались, почти как друзья расстались, – ехидно съязвило в моей голове, – надеюсь, навсегда».
Я не почувствовал, как остановились мои окаменевшие ноги. Они показались мне очень тяжёлыми. Потом эта тяжесть ушла куда-то вниз, наверное, в землю, и я облегчённо вздохнул, как будто с моей души свалился … огромный камень, наверняка надгробный, потому что только он может быть таким невероятно тяжёлым. Только он может так сильно давить.
После огромного нервного напряжения наступило такое душевное облегчение, что я даже физически почувствовал его.
Не знаю, сколько минут, а может, всего несколько секунд, но точно целую вечность, я стоял неподвижно. И только когда передо мной остановилась белая «шестёрка» руководителя сельской общины «Комитас» Размика Ипекчяна, единственного армянина, имевшего машину в связи с работой в городской больнице, я почувствовал пронзительный холод, проникающий в мою душу. Я почти по колено стоял в луже, раскинувшейся метров на десять в длину и заполненной грязной полужидкой жижей.
– Да как же тебя угораздило попасть в эту лужу, куда же ты смотрел, не видел, что ли? Давай, садись в машину, – крикнул Размик, высунув голову из салона, – давай, давай, повезу тебя домой, заболеешь ведь. И не забудь выпить стакан крепкой чачи с острым перцем.
Я хотел ему ответить, что не только я, но и все мы вместе оказались в ещё большей и страшной, нет, не в луже, а в болоте, и уже болеем какой-то непонятной болезнью…
Так что, я уверен, никакая крепкая чача даже с самым острым перцем чили не поможет.
Но я только махнул рукой и пошёл к машине, быстро сообразив, что это – самое удачное для меня продолжение дня.
Артавазд САРЕЦЯН